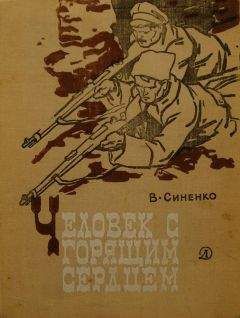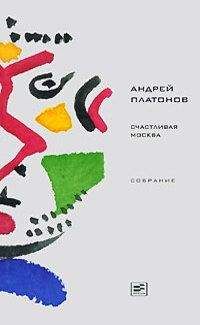Андрей Платонов - Счастливая Москва
— Почему вы такой печальный… Вы меня любите или нет?
Она дышала на него теплотой улыбающегося рта, платье ее шелестело, — скука зла и мужества охватила Сарториуса. Он ответил ей:
— Нет. Я любуюсь другою Москвой — городом.
— Ну тогда ничего, — охотно примирилась Честнова. — Пойдемте ужинать. Там ест больше всех товарищ Селин… Весь объелся, сидит красный, а глаза все время печальные. Не знаете почему?
— Нет, — тихо ответил Сарториус. — Я сам тоже печальный.
Москва пригляделась во тьме к его несоразмерному лицу, по нему шли слезы при открытых глазах.
— Лучше не плачьте, — сказала Москва. — Я тоже вас люблю…
— Вы врете, — не поверил Сарториус.
— Нет, правда, — совершенно верно! — воскликнула Честнова. — Пойдемте отсюда поскорей…
Когда они проходили под руку среди торжествующих друзей, Самбикин посмотрел на них своими глазами, забывшими моргать и отвлеченными размышлением в далекую сторону от личного счастья. У выхода перед грудью Москвы очутился Божко и с уважением произнес свою терпеливую просьбу. Честнова настолько обрадовалась ему, что схватила со стола кусок торта и сразу угостила Божко.
Виктор Васильевич служил теперь в тресте весоизмерительной промышленности и был увлечен всецело заботой о гирях и весах. Он попросил Москву Ивановну познакомить его с таким знаменитым инженером, который мог бы изобрести простые и точные весы, чтоб их можно было сделать за дешевую цену для всех колхозов и совхозов и для всей советской торговли. Божко здесь же сообщил, не видя грусти Сарториуса, о великих и незаметных бедствиях народного хозяйства, о дополнительных трудностях социализма в колхозах, о снижении трудодней, о кулацкой политике, развертывающейся на основе неточности гирь, весов и безменов, о массовом, хотя и невольном, обмане рабочего потребителя в кооперации и распределителях… И все это происходит лишь благодаря ветхости государственного весового парка, устарелой конструкции весов и недостатку металла и дерева для постройки новых весовых машин.
— Вы меня извините, что я пришел сюда невольно, — говорил Божко. — Я понимаю, что я скучный. Здесь говорили, а я слышал, как человек скоро будет летающим и счастливым. Я это буду слушать всегда и с удовольствием, но нам нужно пока немного… Нам нужно хлеб и крупу вешать в колхозах с правильностью.
Москва улыбнулась ему с кротостью своего преходящего нрава:
— Вы прекрасный, советский наш человек!.. Сарториус, ступайте завтра же в ихний трест, сделайте им чертеж самых дешевых, самых простых весов — и чтоб правильные были!
Сарториус задумался.
— Это трудно, — сознался он. — Легче усовершенствовать паровоз, чем весы. Весы работают уже тысячи лет… Это все равно, что изобрести новое ведро для воды. Но я приду в ваш трест и помогу, если сумею.
Божко дал адрес своего учреждения и ушел со счастьем в свою комнату, где его ожидал обычный труд по всемирной корреспонденции.
7
Они приехали за город почти с последним трамваем и назад не могли возвратиться. Далекое электрическое зарево небосклон отражал обратно на землю и самый бедный свет доходил до здешней ржаной нивы и лежал на ее колосьях как ранняя, неверная заря. Но была еще поздняя ночь.
Честнова Москва сняла туфли и пошла босиком по полевой мякоти. Сарториус со страхом и радостью следил за ней; чтобы она ни делала сейчас, все ему приносило в сердце содрогание и он пугался развертывающейся в нем тревожной и опасной жизни. Он шел за нею, все время нечаянно отставая, и однообразно думал о ней, но с такой трогательностью, что если бы Москва присела мочиться, Сарториус бы заплакал.
Честнова дала ему понести туфли, он незаметно обнюхал их и даже коснулся языком; теперь Москва Честнова и все, что касалось ее, даже самое нечистое, не вызывало в Сарториусе никакой брезгливости, и на отходы из нее он мог бы глядеть с крайним любопытством, потому что отходы тоже недавно составляли часть прекрасного человека.
— Товарищ Сарториус, что мы будем теперь делать? — спросила Москва. — Ведь ночь еще стоит и скоро ляжет роса…
— Не знаю, — угрюмо ответил Сарториус. — Мне наверное придется любить вас.
— Вот колхоз в лощине спит, — показала Честнова в даль.
— Там хлебом сейчас пахнет и ребятишки спят в овинах. А коровы лежат где-нибудь на выгоне и над ними начинается туман рассвета… Как люблю я все это видеть и жить!
Сарториусу же были теперь безразличны все коровы и сопящие во сне ребятишки. Он даже хотел, чтобы земля стала пустынной и Москва бы не отвлекала никуда своего внимания, а целиком сосредоточилась на нем.
Под утро Москва и Сарториус сели в землемерную яму, обросшую теплым буьяном, спрятавшемся здесь от культурных полей, как кулак на хуторе.
Сарториус взял Честнову за руку; природа, — все, что потоком мысли шло в уме, что гнало сердце вперед и открывалось перед взором, всегда незнакомо и первоначально — заросшей травою, единственными днями жизни, обширным небом, близкими лицами людей, — теперь эта природа сомкнулась для Сарториуса в одно тело и кончилась на границе ее платья, на конце ее босых ног.
Всю свою юность Сарториус провел в изучении физики и математики; он трудился над расчетом бесконечности как тела, пытаясь найти экономический принцип ее действия. Он хотел открыть в самом течении человеческого сознания мысль, работающую в резонанс природы и отражающую поэтому всю ее истину — хотя бы в силу живой случайности, и эту мысль он надеялся закрепить навеки расчетной формулой. Но он сейчас не сознавал никакой мысли, потому что в голову его взошло сердце и там билось над глазами. Сарториус погладил руку Москвы, твердую и полную, как резервуар скупого, давно сдавленного чувства.
— Семен, ну чего же вы хотите от меня? — покорно спросила Честнова, готовая к добру.
— Я хочу жениться на вас, — сказал Сарториус. — Больше я не знаю, чего хотеть.
Москва задумалась и съела былинку бурьяна молодым алчным ртом.
— И ведь правда, что больше нечего хотеть, когда любишь. А говорят, что это глупо!
— Пусть говорят, — сумрачно произнес Сарториус. — Они только говорят, а сами наверно не любят… А что же делать, когда я без тебя томлюсь!
— А ты обними меня, и я тебя.
Сарториус обнял ее.
— Ну что, тебе легче стало томиться?
— Нет, так же, — ответил Сарториус.
— Тогда нам придется жениться, — согласилась Москва.
Когда невинное, ежедневное утро осветило местные колхозы и окрестности громадного города, Честнова и Сарториус еще находились в землемерной яме. Узнав всю Москву полностью, все тепло, преданность и счастье ее тела, Сарториус с удивлением и ужасом почувствовал, что его любовь не утомилась, а возросла, и он в сущности ничего не достиг, а остался по-прежнему несчастным. Значит, этим путем нельзя было добиться человека и действительно разделить с ним жизнь. Так как же быть? Сарториус ничего не знал.
Москва Честнова лежала навзничь; небо над нею было сначала водяным, потом стало синим и каменным, затем превратилось в золотистое и мерцающее, как будто прорастающее цветами, — взошло солнце за Уралом и приближалось сюда.
Москва выбралась из ямы, обтянула платье на себе, обулась и пошла в город одна. Сарториусу она сказала, что будет его женою впоследствии: пусть он пока работает в тресте весов и гирь, где служит Божко, она найдет его, когда нужно будет.
Беспомощный и ничтожный вылез вслед за нею Сарториус. Он стоял один на рассвете, в пустоте недозревших полей, испачканный и грустный, как уцелевший воин на оконченном побоище.
— Зачем же ты уходишь, Москва? Я ведь люблю тебя еще больше!
Москва обернулась к нему.
— Я не бросаю тебя, Семен. Я же сказала, что вернусь… Я тоже тебя люблю.
— А почему ты уходишь от меня? Иди сюда снова опять.
Честнова стояла в недоумении шагов за десять.
— Мне жалко, Семен…
— Чего тебе жалко?
— Мне жалко чего-то… Сколько я ни живу, а жизнь со мной никак не сбывается, как я хочу.
Москва нахмурилась и стояла в обиде на границе высокой ржи. Солнце блестело на шелке ее платья и на волосах высыхали последние капли утренней влаги, которую она набрала в бурьяне. Легкий ветер дул с прохладных москворецких низин и рожь неясно бормотала опухшими колосьями; свет солнца, как мысль и улыбка, наполнил всю местность, одна лишь Москва была невеселая и красивое платье и тело ее, сделанные из той же светящейся природы, не соответствовали ее печальному лицу. Сарториус снова привел Москву в укромную траву и не мог понять, отчего им обоим стало так скучно.
— Отстань ты от меня! — отодвинулась Москва вдруг от Сарториуса. — Я все делала, в воздухе летала и с мужьями жила
— не ты ведь первый, грустный, милый мой!
Честнова отвернулась и легла вниз лицом. Вид ее большого, непонятного тела, согретого под кожей скрытой кровью, заставил Сарториуса обнять Москву и еще раз молчаливо и поспешно истратить вместе с нею часть своей жизни — единственно, что можно сделать, — пусть это будет бедно и не нужно и на самом деле не решает любви, а лишь утомляет человека. Еще не дотерпев объятий Сарториуса до конца, Москва обернула к нему лицо и насмешливо улыбнулась, — она обманывала в чем-то своего любимого человека.