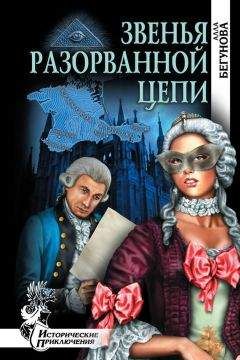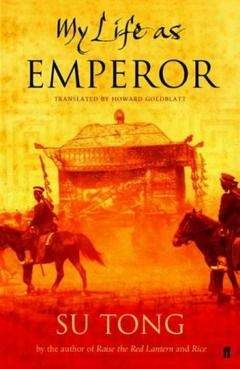Лион Фейхтвангер - Сыновья
Он представляет себе, как будет рассказывать своим друзьям, сенатору Маруллу и адъютанту Аннию, об этом разговоре, как он прежде всего, торжествуя, расскажет о нем своей дорогой Луции. До мельчайших подробностей опишет он ей беспомощные усилия брата уговорить его и то, как он, Домициан, угадал его хитрость и отшил его. Луция будет смеяться; она хорошо смеется, и когда ему удастся ее рассмешить, от нее многого можно добиться. Он очень недоверчив, люди – дерьмо, он в этом глубоко убежден, но когда Луция смеется, он счастлив. Может быть, если она посмеется хорошо и одобрительно его рассказу, то позволит ему поцеловать шрам под своей левой грудью, прикасаться к которому она так часто ему запрещает.
– Я отдаю должное вашим добрым намерениям, брат, – заявляет он наконец очень вежливо, – но это ничего не меняет в вопросе о моих правах. Сокрытие завещания остается преступлением, его, быть может, можно простить, но нельзя искупить подобными предложениями. Я оставляю за собой свободу действий, – заканчивает он, кланяется, уходит.
Когда он затем, 30 июня, шагал за носилками отца, нельзя сказать, чтобы он испытывал недовольство. То, например, что в шествии несли столы для хлебов предложения и золотой семисвечник, взятые в качестве военной добычи в Иудейскую войну, и что таким образом восторжествовала правда и покорителем Иудеи был признан Веспасиан, а не Тит, – этого добился он, брату пришлось согласиться. Чем дольше продолжалась церемония, тем большее удовлетворение испытывал Домициан. Хорошо, что старику уже крышка. Тит прав, теперь достоинство династии можно поддержать совсем иначе. Правда, покойный отец, который полулежит там, в позе живого, на высоких носилках, опершись щекою на руку, не отличается особым достоинством, несмотря на императорские пурпурные одежды. Но процессия предков, идущих впереди, являет собой в высшей степени внушительное зрелище. Теперь у Тита и у него наконец развязаны руки. Актеры, движущиеся впереди бесконечной вереницей на конях, пешком, лежа на носилках и воплощающие предков в их масках, изображают отнюдь не владельца откупной конторы и не посредника, но полководцев, верховных судей, президентов, и их шествие завершает Геркулес, родоначальник династии. Пусть доказательства, подтверждающие таких предков, довольно сомнительны, но если их показывать массам достаточно часто, в них поверят, – он сам уже начинает в них верить.
Рядом с более крепким младшим братом Тит кажется несколько усталым. Время от времени он бормочет вместе с хорами:
– О Веспасиан, о отец мой, Веспасиан! – Но это только машинальное движение губ. Он страдает от жары, от своей вялости. Может быть, Малыш подсунул ему яд, ползучий, медленно действующий? Правда, его врач Валент это отрицает, а Валент достоин доверия. Может быть, действительно его усталость – результат бурной, беспокойной жизни. Может быть, последствие болезни, которой его заразила женщина. Может быть, не яд и не болезнь, а просто кара еврейского бога.
Девять лет прошло с тех пор, как сожгли дом этого бога. Не он – они. Он обещал Беренике пощадить храм и сделал, что мог. Если в конце концов вышло иначе, он в этом повинен не больше, чем его отец, и если он приказал нести в траурном шествии захваченную тогда храмовую утварь, то он по праву уступает умершему честь этого триумфа, но тем самым сваливает на него и всю ответственность за оскорбление еврейского бога.
Он отчетливо помнит, как отдал тогда первому центуриону Пятого легиона приказ на роковое 29 августа: «Если противник будет препятствовать производству работ по тушению и уборке, его следует энергично отбросить, однако сохраняя постройки, поскольку таковые входят в состав самого храма» – так сформулировал он свой приказ. Он застраховался. Военный суд тогда все выяснил. Первая когорта Пятого легиона получила от военного руководства выговор за то, что не предотвратила пожар. Чтобы оправдаться, он даже не нуждается в хорошем адвокате.
Правда, остается другой вопрос: смог ли бы лучший оратор и хитроумнейший адвокат, будь то сам Марулл или Гельвидий, оправдать его перед проклятым хитрым восточным богом, перед этим невидимым Ягве? Центурион Пятого легиона повторил, согласно уставу, полученный приказ. Тит видит его перед собой, этого капитана Педана, как он стоял тогда перед ним, мясистый, с голым, розовым лицом, массивными плечами, мощной шеей, с одним живым и одним стеклянным глазом. Он еще будто слышит, как капитан, повторяя приказ, произносил его своим пискливым голосом. Затем, сейчас же после того, как Педан кончил, наступила крошечная пауза. Тит и теперь хорошо помнит ощущение, испытанное им во время этой крошечной паузы, – нужно разрушить вон то белое с золотым, храм этого жуткого невидимого бога, его нужно растоптать; вот что он тогда почувствовал. Иерусалим должен погибнуть, Hierosolyma est perdita, начальные буквы этих слов, – хеп, хеп, – вот что он тогда почувствовал совершенно так же, как и его солдаты. Но что он почувствовал – это его дело. Мысли невидимы, отвечать нужно только за свои дела. Возможно, конечно, что этот хитрый Ягве придерживается другой точки зрения, он, который, несмотря на свою незримость, решительно все замечает. Может быть, он поэтому сейчас и мстит ему, насылает на него болезнь и лишает всякой радости и энергии. Может быть, умнее было бы вместо доктора Валента посоветоваться с хорошим еврейским священником. Надо это обсудить с евреем Иосифом.
Ах, если бы он мог это обсудить с Береникой! Если бы она была здесь! Ведь это ради нее он устроил огневую сигнализацию. В Иудее, наверно, давно уже известно, что старик умер. Вероятно, узнала об этом и Береника в своих уединенных иудейских имениях. Наверно, она понимает, как нужна ему, и давно отправилась в путь.
– О Веспасиан! О отец мой, Веспасиан! – произносят его губы. Но его мысли заняты Береникой. Он высчитывает, что при попутном ветре она может быть здесь уже через десять дней.
Наконец шествие достигло Форума. Останавливается перед ораторской трибуной. Тит всходит на трибуну. Он хороший оратор, надгробные речи – благодарная задача, он хорошо подготовился. На скрытой в складках рукава табличке он сделал стенографические заметки. Итак, вполне уверенный в себе, он начинает говорить даже с известным удовольствием. Однако, как ни странно, он скоро отклоняется от того, о чем хотел сказать. Он почти не упоминает об английском походе умершего и говорит очень мало о спасении государства и стабилизации народного хозяйства, но металлическим голосом командующего, в длинных фразах прославляет он взятие и разрушение Веспасианом Иерусалима, этого никем до тех пор не завоеванного города. С удивлением слушали его римляне, Домициан откровенно ухмылялся. Удивлены были и евреи: почему новый император не желал признать себя разрушителем храма? К добру это или к худу, что новый владыка словно хочет сжечь свои деяния вместе с останками прежнего императора?
На Марсовом поле был сложен огромный костер в виде пирамиды в семь все уменьшавшихся кверху этажей. Пирамида эта была покрыта затканными золотом коврами; барельефы из слоновой кости и картины прославляли деяния человека, который вот-вот станет богом. Дары, принесенные умершему сенатом и народом, были разложены на этих семи этажах: кушанья, одежда, драгоценности, оружие, утварь – все, что на том свете могло ему пригодиться или доставить удовольствие. Далеко разносились вокруг ароматы смол, курений, благовонных масел, которые должны были заглушить смрад костра.
Крыши окружающих зданий – театров, бань, галерей – были усеяны зрителями. Для тех, кто не мог принять участие в процессии, ибо расстояние между Палатином и Марсовым полем оказалось недостаточным, чтобы вместить всех, имевших на это право, были возведены четыре большие трибуны.
На одной из них отвели места для представителей семи иудейских общин Рима. К ним присоединился и Клавдий Регин. Места были очень хорошие, и иудеи рассматривали это как благоприятный знак.
Давно пора повеять более дружелюбному ветру. Правительство в свое время не заставило римских евреев нести кару за Иудейское восстание. И все-таки разрушение их государства и их храма причинило им тяжкое горе. Хотя многие семьи жили в Риме уже полтора века, они не переставали считать Иудею своей родиной и через каждые несколько лет, полные благочестивой радости, совершали паломничество на праздник пасхи в Иерусалим, к дому Ягве. Теперь они навеки утратили свою истинную родину. И, помимо того, изо дня в день им напоминали особенно унизительным образом о разрушении их святыни. Именно этот человек, тело которого проносили теперь мимо них, не пожелал подарить им те небольшие отчисления, которые они делали раньше в пользу Иерусалимского храма. Наоборот: злорадно издеваясь, отдал он приказ, чтобы все пять миллионов евреев, живших в Римском государстве, отныне вносили этот налог на культ Юпитера Капитолийского. Под страхом смертной казни им было запрещено приближаться к развалинам храма ближе, чем на десять миль; и вместе с тем в насмешливом великолепии перед ними вздымалось обновленное на их деньги святилище Капитолийской троицы[16], дом того самого Юпитера, который, по мнению римлян, победил их Ягве и поверг его во прах.