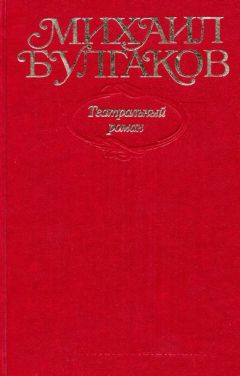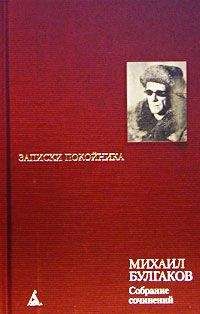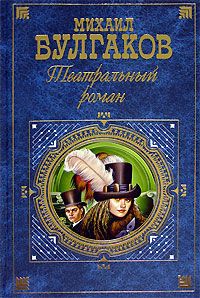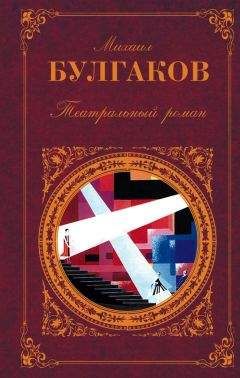Михаил Булгаков - Записки покойника. Театральный роман
— Вы Гришу Айвазовского знаете[46]?
— Нет.
Ильчин поднял брови, он изумился.
— Гриша заведует литературной частью в Когорте Дружных[47].
— А что это за Когорта?
Ильчин настолько изумился, что дождался молнии, чтобы рассмотреть меня.
Полоснуло и потухло, и Ильчин продолжал:
— Когорта — это театр. Вы никогда в нем не были?
— Я ни в каких театрах не был. Я, видите ли, недавно в Москве.
Сила грозы упала, и стал возвращаться день. Я видел, что возбуждаю в Ильчине веселое изумление.
— Гриша был в восторге, — почему-то еще таинственнее говорил Ильчин, — и дал мне книжку. Прекрасный роман.
Не зная, как поступать в таких случаях, я отвесил поклон Ильчину.
— И знаете ли, какая мысль пришла мне в голову, — зашептал Ильчин, от таинственности прищуривая левый глаз, — из этого романа вам нужно сделать пьесу!
«Перст судьбы», — подумал я и сказал:
— Вы знаете, я уже начал ее писать.
Ильчин изумился до того, что правою рукою стал чесать левое ухо и еще сильнее прищурился. Он даже, кажется, не поверил сначала такому совпадению, но справился с собою.
— Чудесно, чудесно! Вы непременно продолжайте, не останавливаясь ни на секунду. Вы Мишу Панина знаете[48]?
— Нет.
— Наш заведующий литературной частью.
— Ага.
Дальше Ильчин сказал, что, ввиду того что в журнале напечатана только треть романа, а знать продолжение до зарезу необходимо, мне следует прочитать по рукописи это продолжение ему и Мише, а также Евлампии Петровне[49], и, наученный опытом, уже не спросил, знаю ли я ее, а объяснил сам, что это женщина-режиссер.
Величайшее волнение возбуждали во мне все проекты Ильчина.
А тот шептал:
— Вы напишете пьесу, а мы ее и поставим. Вот будет замечательно! А?
Грудь моя волновалась, я был пьян дневной грозою, какими-то предчувствиями. А Ильчин говорил:
— И знаете ли, чем черт не шутит, вдруг старика удастся обломать... А?
Узнав, что я и старика не знаю, он даже головою покачал, и в глазах у него написалось: «Вот дитя природы!»
— Иван Васильевич! — шепнул он. — Иван Васильевич! Как? Вы не знаете его? Не слыхали, что он стоит во главе Независимого[50]? — И добавил: — Ну и ну!..
В голове у меня все вертелось, и главным образом оттого, что окружающий мир меня волновал чем-то. Как будто в давних сновидениях я видел его уже, и вот я оказался в нем.
Мы с Ильчиным вышли из комнаты, прошли зал с камином, и до пьяной радости мне понравился этот зал. Небо расчистилось, и вдруг луч лег на паркет. А потом мы прошли мимо странных дверей, и, видя мою заинтересованность, Ильчин соблазнительно поманил меня пальцем внутрь. Шаги пропали, настало беззвучие и полная подземная тьма. Спасительная рука моего спутника вытащила меня, в продолговатом разрезе посветлело искусственно — это спутник мой раздвинул другие портьеры, и мы оказались в маленьком зрительном зале мест на триста. Под потолком тускло горели две лампы в люстре, занавес был открыт, и сцена зияла. Она была торжественна, загадочна и пуста. Углы ее заливал мрак, а в середине, поблескивая чуть-чуть, высился золотой, поднявшийся на дыбы, конь.
— У нас выходной, — шептал торжественно, как в храме, Ильчин, потом он оказался у другого уха и продолжал: — У молодежи пьеска разойдется, лучше требовать нельзя... Вы не смотрите, что зал кажется маленьким, на самом деле он большой, а сборы здесь, между прочим, полные... А если старика удастся переупрямить, то, чего доброго, не пошла бы она и на большую сцену! А?
«Он соблазняет меня, — думал я, и сердце замирало и вздрагивало от предчувствий, — но почему он совсем не то говорит? Право, не важны эти большие сборы, а важен только этот золотой конь, и чрезвычайно интересен загадочнейший старик, которого нужно уламывать и переупрямить, для того чтобы пьеса пошла...»
— Этот мир мой... — шепнул я, не заметив, что начинаю говорить вслух.
— А?
— Нет, я так.
Расстались мы с Ильчиным, причем я унес от него записочку:
«Досточтимый Петр Петрович[51]!
Будьте добры обязательно устроить автору „Белого снега" место на „Фаворита"[52].
Ваш душевно Ильчин».
— Это называется контрамарка, — объяснил мне Ильчин, и я с волнением покинул здание, унося первую в жизни своей контрамарку.
С этого дня жизнь моя резко изменилась. Я днем лихорадочно работал над пьесой, причем в дневном свете картинки из страниц уже не появлялись, коробка раздвинулась до размеров учебной сцены.
Вечером я с нетерпением ждал свидания с золотым конем.
Я не могу сказать, хороша ли была пьеса «Фаворит» или дурна. Да это меня и не интересовало. Но была какая-то необъяснимая прелесть в этом представлении. Лишь только в малюсеньком зале потухал свет, за сценой где-то начиналась музыка и в коробке выходили одетые в костюмы XVIII века. Золотой конь стоял сбоку сцены, действующие лица иногда выходили и садились у копыт коня или вели страстные разговоры у его морды, а я наслаждался.
Горькие чувства охватывали меня, когда кончалось представление и нужно было уходить на улицу. Мне очень хотелось надеть такой же точно кафтан, как и на актерах, и принять участие в действии. Например, казалось, что было бы очень хорошо, если бы выйти внезапно сбоку, наклеив себе колоссальный курносый пьяный нос, в табачном кафтане, с тростью и табакеркою в руке и сказать очень смешное, и это смешное я выдумывал, сидя в тесном ряду зрителей. Но произносили другие смешное, сочиненное другим, и зал по временам смеялся. Ни до этого, ни после этого никогда в жизни не было ничего у меня такого, что вызывало бы наслаждение больше этого.
На «Фаворите» я, вызывая изумление мрачного и замкнутого Петра Петровича, сидящего в окошечке с надписью «Администратор Учебной сцены», побывал три раза, причем в первый раз во 2-м ряду, во второй — в 6-м, а в третий — в 11-м. А Ильчин исправно продолжал снабжать меня записочками, и я посмотрел еще одну пьесу, где выходили в испанских костюмах[53] и где один актер играл слугу так смешно и великолепно, что у меня от наслаждения выступал на лбу мелкий пот.
Затем настал май, и как-то вечером соединились наконец и Евлампия Петровна, и Миша, и Ильчин, и я. Мы попали в узенькую комнату в этом же здании Учебной сцены. Окно уже было раскрыто, и город давал знать о себе гудками.
Евлампия Петровна оказалась царственной дамой с царственным лицом и бриллиантовыми серьгами в ушах, а Миша поразил меня своим смехом. Он начинал смеяться внезапно — «ах, ах, ах», — причем тогда все останавливали разговор и ждали. Когда же отсмеивался, то вдруг старел, умолкал[54].
«Какие траурные глаза у него, — я начинал по своей болезненной привычке фантазировать. — Он убил некогда друга на дуэли в Пятигорске, — думал я, — и теперь этот друг приходит к нему по ночам, кивает при луне у окна головою». Мне Миша очень понравился.
И Миша, и Ильчин, и Евлампия Петровна показали свое необыкновенное терпение, и в один присест я прочитал им ту треть романа, которая следовала за напечатанною. Вдруг, почувствовав угрызения совести, я остановился, сказав, что дальше и так все понятно. Было поздно.
Между слушателями произошел разговор, и, хотя они говорили по-русски, я ничего не понял, настолько он был загадочен[55].
Миша имел обыкновение, обсуждая что-либо, бегать по комнате, иногда внезапно останавливаясь.
— Осип Иваныч[56]? — тихо спросил Ильчин, щурясь.
— Ни-ни, — отозвался Миша и вдруг затрясся в хохоте. Отхохотавшись, он опять вспомнил про застреленного и постарел.
— Вообще старейшины[57]... — начал Ильчин.
— Не думаю, — буркнул Миша.
Дальше слышалось: «Да ведь на одних Галиных да на подсобляющем не очень-то...» (Это — Евлампия Петровна.)
— Простите, — заговорил Миша резко и стал рубить рукой, — я давно утверждаю, что пора поставить этот вопрос на театре!
— А как же Сивцев Вражек? (Евлампия Петровна.)
— Да и Индия[58] тоже неизвестно, как отнесется к этому дельцу, — добавил Ильчин.
— На кругу бы сразу все поставить, — тихо шептал Ильчин, — они так с музычкой и поедут.
— Сивцев! — многозначительно сказала Евлампия Петровна.
Тут на лице моем выразилось, очевидно, полное отчаяние, потому что слушатели оставили свой непонятный разговор и обратились ко мне.
— Мы все убедительно просим, Сергей Леонтьевич, — сказал Миша, — чтобы пьеса была готова не позже августа... Нам очень, очень нужно, чтобы к началу сезона ее уже можно было прочесть.
Я не помню, чем кончился май. Стерся в памяти и июнь, но помню июль. Настала необыкновенная жара. Я сидел голый, завернувшись в простыню, и сочинял пьесу. Чем дальше, тем труднее она становилась. Коробочка моя давно уже не звучала, роман потух и лежал мертвый, как будто и нелюбимый. Цветные фигурки не шевелились на столе, никто не приходил на помощь. Перед глазами теперь вставала коробка Учебной сцены. Герои разрослись и вошли в нее складно и очень бодро, но, по-видимому, им так понравилось на ней рядом с золотым конем, что уходить они никуда не собирались, и события развивались, а конца им не виделось. Потом жара упала, стеклянный кувшин, из которого я пил кипяченую воду, опустел, на дне плавала муха. Пошел дождь, настал август. Тут я получил письмо от Миши Панина. Он спрашивал о пьесе.