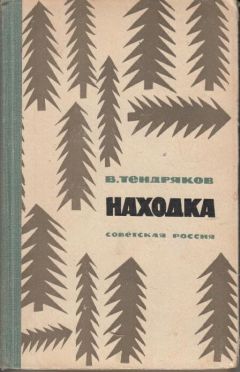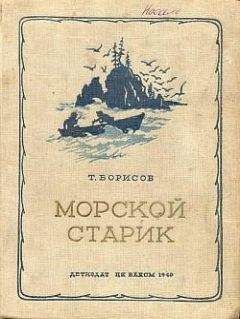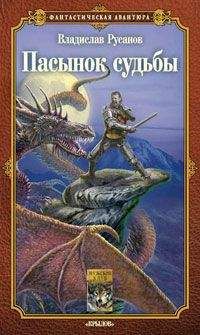Владимир Тендряков - Находка
Лучше всего пожить бы в какой-нибудь подозрительной деревеньке недельку, две, не расспрашивать, а только слушать. Тогда наверняка дойдет: мол, та паскуда в курной избе ребенка кинула. Но у Трофима никого из родни в этих деревнях не было, а если б и была родня, то ни он их, ни они его гостьбой не жаловали. Выехать просто так, поселиться у какой-нибудь старушки — опять подозрительно: «С чего это он в такую пору курортничает?» Не так-то просто выудить поганую рыбку.
Трофим перебирал в памяти знакомых, живущих по побережным деревням. Знакомых много, но эти знакомые пусть сами готовы девке на подол плюнуть, а для него, Трофима, землю рыть не будут.
И неожиданно вспомнил: «Анисим-то родом из Нижнего Осичья, это как раз возле самой Копновки. Там у него — кто не кум, тот сват». Анисим видел мертвую девочку, сам стервил на чем свет стоит гулящую девку. После того как Трофим вернулся, не только Анисим, но и его жена, эта баба-солдат, радели к Трофиму — отпаивали молоком, парили в бане, выхаживали, как могли. Анисима можно упросить, чтоб съездил на недельку к родне — часто туда ездит, глядишь, мимоходом свою нуждишку справит. Его-то никому и в голову не придет опасаться. На худой конец, ежели Анисиму недосуг самому съездить, то пусть кому из Осичья накажет разузнать.
«Найду курву…» — Трофим, успокоенный, заснул.
На другой день он начал собираться к Анисиму. Вспомнил, что жена Анисима плакалась: часто угорает возле печи, а в Пахомове нельзя найти нашатырного спирта. Купил ей спирт. А так как дорога от аптеки шла мимо книжного магазина, вспомнил про страстишку Анисима, завернул в книжный, куда еще никогда не заглядывал. Долго щупал книги, приглядывался к картинкам на обложках, выбирал поцветистей и потолще — бог с ними, что стоят дороже, зато Анисим целую зиму будет мусолить страницу за страницей, поминать добрым словом Трофима. Наконец выбрал: Август Бебель, «Из моей жизни», потому что на обложке — почтенный человек с бородкой, а значит, и жизнь его должна быть почтенная, кроме того — толщина в кирпич.
И в этих сборах было что-то легкое, радостное — едет не по службе, а, считай, в гости. Трофим же не счесть сколько раз в году ночевал под чужой крышей, ел за чужим столом, а бывал ли он хоть раз в жизни в гостях?.. Что-то не припомнит.
На попутной машине до Пахомова. В Пахомове найти лодку нетрудно. И вот он снова у Анисима.
Хозяйка приняла пузырек с нашатырным спиртом: «Вот спасибо-то…» В простенке на дощатой полочке меж других книг уместился пухлый Август Бебель. На столе — печенье, конфеты и бутылочка «Московской», тоже привезенные Трофимом. И поет начищенный самовар, и хрящеватый нос Анисима, пропустившего стопочку, опрокинувшего в себя четыре стакана чаю, тоже отливает медью.
— Не могу, чтоб эта гнида жила безнаказанно, — говорит Трофим. — Ты уж мне помоги. Жизни нет, ни минуты покойной — все только о ребенке и думаю…
Анисим отмалчивается, цедит сквозь жидкие усы из блюдечка чай, ждет, что скажет жена. Сейчас, перед зимой, начальство не тревожит, можно на месяц скрыться из сторожки, но как жена — одной в лесу бабе оставаться страшновато, хоть за много лет и попривыкла к бирючьей жизни. И дом не бросишь — корова, телка, подсвинок ухода требуют.
А Трофим наседает:
— Святое дело — землю от пакости очистить. Худую траву с поля вон. Ты же сам костил ее почем зря в прошлый раз. Вспомни, как девчонку-то зарывали. Иль у тебя сердце луженое? Эх, да чего уж, как подумаю — варом обдает.
Анисим молчал, а его жена сказала:
— Тебе легче станет, если к прежней беде новая нарастет?
— Это на кого беда? На сучку блудливую? И злому осоту не сладко, когда его с грядки с корнем рвут. От такой беды всем легче станет.
— Блудливая? А вдруг да горемыка разнесчастная. Мало ли обманутых вашим братом.
— Ты чего защищаешь? — прикрикнул на жену Анисим. — Припечь бы такую не худо.
— При-печь… Много вы оба понимаете в бабьем горе. Может, в такие клещи попала, что хоть в омут головой.
— А хотя бив омут, — возразил Анисим, — все греха меньше.
— Оглянись на себя! Тебя-то можно ль заставить в омут нырнуть? Трактором потащат, отбрыкиваться будешь.
— У тебя были дети? — строго спросил Трофим.
— А то нет! Троих родила, да на ноги-то поставить одного привелось.
— Так детей своих вспомни. Погубила бы ты их своими руками? Что молчишь?.. Ты же мать, ты же пуще нас, дубовых мужиков, к сердцу принять должна. Я вот забыть не могу, как у могилки вместе имя девочке давали, ты чего-то быстро забыла.
И жена Анисима осеклась, сидела за столом надутая, не остывшая, тронь — ожгет: но это только казалось, так себе — самовар, в котором угли потухли.
Анисим рассудительно заговорил:
— Припечь бы такую не худо… Всей бы душой тебе помог, но, сам посуди, как уехать на неделю? В лесу-то в эту пору уж так невесело, что и мужик в одиночку, гляди, затрубит волком, а тут бабу оставить — будет она по ночам зеленых чертей гонять. Нет, не неволь.
— Тогда через кого другого помоги дознаться.
— Это можно. Рыбаки-то гуляют по озеру, попрошу — пусть заглянут к Пашке Щепенкову, он по матери братаном мне приходится. Мужик дошлый, а баба его на сажень под землей свежинку чует, они-то разнюхают. Да коль та сучка хитро следы не замела, сам собою грех вылезет наружу, не кручинься.
Большего добиться Трофим не мог.
5
Ждать, когда само собою вылезет наружу, видеть, как проходит день за днем, втягиваться помаленьку в жизнь, ленивенькую, словно послеобеденная дремота, привычную, как белесое небо в окошке, а та до сих пор не открыта, той так и сойдет с рук злодейство!..
И уже начинают люди забывать историю, уже не судачат по домам и не оглядываются на улицах вслед Трофиму…
Так и сойдет с рук?.. Не бывать этому! Найдет! За уши вытащит!
Трофим потолковал с Пал Палычем: «Не мешало бы прощупать Пушозеро на всякий пожарный случай — на рынке сбывали незаконную рыбу, не деревенские ли рыбаки чудачат?..»
Пал Палыч любит, когда дело вертится само собой, без нажима, махнул рукой — езжай, а сам сочинял бумагу в бассейновую инспекцию, выпрашивал еще одну штатную единицу, второго моториста на катер.
Зима в этом году медлила. Давно уже леса голые, давно уже семга вышла из рек, попряталась в глубину, давно на полях киснут зеленя озимых, уже пять раз выпадал снег и каждый раз сходил, оставляя после себя слякоть на дорогах. Озера стоят черные, при виде их зябнет спина.
Трофим шел на весельной лодке от деревни к деревне, ночевал в избах, прислушивался, а чтоб навести на разговор, сам охотно рассказывал, как нес младенца. Его слушали, охали, любопытствовали, судили мать-злодейку, но ничего путного не сообщали — рады бы, да не знали.
Он добирался до очередной деревушки Бобыли, запозднился, наливалась ночь над черной водой, недалекий берег расплывался и начинал смахивать на застывшую тучу. Картаво вскрикивали уключины, падали весла, наводили тугую нефтянистую волну, и гребни этой волны улавливали мутноватый отсвет сумрачного неба. И казалось, все живое вымерло вокруг и весь мир с деревеньками, с мокрыми лесами, с людьми, с лесной живностью залило бездонное озеро.
И в Трофима, как это часто случалось в последнее время, вползла зверем тоска, хоть бросай весла и кричи криком. Один на свете — безродный, несогретый, никому не нужный, один, и нет надежды, что найдешь кого-то. Уже близка старость, в его годы любой человек сидит, как в шубе, внутри семьи — дети, которых когда-то носил на руках, внуки, лезущие на колени. Ничего! Голый, зябнущий, источенный злобой. Все эти годы злоба идет по пятам. Вот и сейчас сбежал из дому, ищет… А вдуматься — что ищет?
Вскрикивают уключины, всхлипывают весла, лодка режет жирную воду, везет его в незнакомую деревню, к незнакомым людям. И он будет считать удачей, если найдет, если растопчет ту, что ищет, и ему кажется, что от этого ему станет легче.
В стороне от берега, на воде теплился огонек. Единственная светлая точка в мокрой темени — деревня-то далеко, светящихся окон не видно,единственная на весь обступивший мир, дрожащая, неверная, ласково зовущая к себе. И правое весло само собой налегло сильней, само собой нос лодки нацелился на огонек.
Огонь на воде, огонь среди озера, где не бывало и нет никаких бакенов, мог означать только одно — «лучат рыбу».
Поздней осенью, вплоть до ледостава, в холодной воде рыбы дремлют. В эту пору у них на время остывает неумеренная жажда к жизни — не рыщут с прежней энергией, кого бы сожрать, не прячутся, чтобы не быть сожранными, не увиваются возле самок — «трошки тупеют», как говорят в деревнях. Рыбаки на нос лодки устанавливают из железного листа жаровню, разводят на ней огонь, берут длинную острогу. Костер освещает воду, она, в темноте нефтянисто-черная, при отсветах пламени хотя и скупо, но открывает секреты — шевелящиеся водоросли, затонувшую корягу и наконец обморочно застывшую в скупой пестрой расцветке щуку. Тогда вскидывай острогу и не промахнись… И в этой ловле были свои прославленные мастера добытчики.