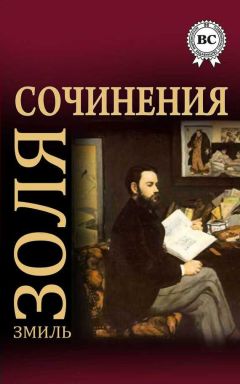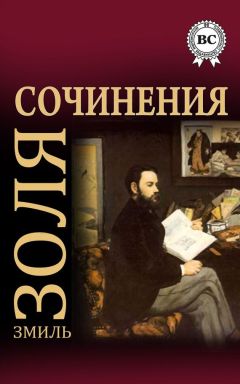Эмиль Золя - Сказки Нинон
Заметив, что я рассматриваю его с любопытством, он продолжал замирающим голосом, подтягивая на пальцах перчатки:
— Бедняку незачем смеяться, сударь! Это бесчестно — позволять ему забывать свою нищету на какой-нибудь час. Кто же будет тогда оплакивать страдания народа, если правительство станет без конца угощать его подобными сатурналиями?
Отерев слезу, он покинул меня. Я видел, как он завернул в кабачок и, не отходя от стойки, утопил свое душевное волнение в вине, опрокинув пять-шесть стаканчиков подряд.
VIIIУгас последний лампион. Толпа рассеялась. В мерцающем свете уличных фонарей я не различал уже ничего, кроме смутных теней, бродящих под деревьями, — запоздалые любовные парочки, пьяные да задумчиво расхаживающие полицейские. Шатры выстроились по обеим сторонам улицы, темные и немые, словно палатки покинутого лагеря.
Влажный предутренний ветер перебирал зябко трепещущие листья вязов. Терпкие испарения разгульной толпы уступили место упоительной свежести. Трогательная тишина, прозрачный сумрак медленно опускались из беспредельных небесных глубин. Праздник лампионов сменился величавым хороводом звезд. Добрые люди получили наконец возможность свободно вздохнуть.
Я повеселел — наступил час радостей и для меня. Стремительно проходя многочисленные аллеи, я вдруг заметил серую тень, скользящую вдоль домов. Она быстро двигалась мне навстречу, по-видимому не замечая меня. По легкой поступи, по мерному шелесту платья я распознал в ней женщину.
Чуть не столкнувшись со мною, она инстинктивно подняла на меня глаза. В свете ближайшего фонаря лицо ее четко вырисовывалось передо мной, и я узнал в ней Ту, что любит меня. Не ту, нездешнюю, в белом облаке из муслина, но скорбную дочь земли, едва прикрытую полинялым ситцем. Однако и в этом убогом наряде, бледная и утомленная, она все же казалась очаровательной. Сомневаться было невозможно: вот они, эти огромные глаза, вот и милые, приветливые уста волшебного видения. И вдобавок — заметные вблизи, пленительные следы страдания в ее чертах!
Как только она остановилась на мгновенье, я схватил ее руку и поднес к губам. Она подняла голову и несмело улыбнулась, не пытаясь высвободить свою руку. Видя, что я, задыхаясь от волнения, молчу, она пожала плечами и двинулась дальше. Я нагнал ее и пошел с ней рядом, обхватив ее за талию. Она молча усмехнулась, потом вдруг вздрогнула и прошептала:
— Мне холодно. Пойдемте быстрее.
Ей было холодно, бедняжке! На свежем ночном ветру, под тонкой шалью, плечи ее вздрагивали. Я нежно поцеловал ее в лоб и спросил:
— Ты меня знаешь?
Она в третий раз подняла на меня глаза и ответила не задумываясь:
— Нет.
Меня вдруг словно осенило. Я тоже вздрогнул.
— Куда же мы пойдем? — спросил я снова.
Она беззаботно вскинула плечиком, поджала губы и ответила тоном ребенка:
— А куда хочешь. Ко мне ли, к тебе ли — все равно.
IXМы продолжали идти вдоль улицы.
На одной из скамеек я заметил двух солдат. Один о чем-то наставительно разглагольствовал, другой почтительно слушал. То были сержант и новобранец. Сержант, страшно удивленный, насмешливо отдал мне честь и пробурчал:
— Гм… Богачи, видать, тоже не брезгуют такими…
А новобранец — душа наивная и простая — жалобно протянул:
— Она ведь у меня единственная, сударь. Вы увели у меня Ту, что любит меня!
Я перешел улицу и углубился в другую аллею.
Навстречу нам, схватившись под руки и горланя напропалую, шли трое повес. Я узнал в них школяров. Беднягам теперь уже незачем было притворяться пьяными. Давясь от смеха, они остановились, потом последовали за нами, выкрикивая наперебой нетвердыми голосами:
— Эй, эй! Мадам вас надувает, сударь! Это — Та, что любит меня!
Холодный пот выступил у меня на лбу. Я ускорил шаги, совсем позабыв о женщине, повисшей у меня на руке. В конце улицы, сходя с тротуара и собираясь скорей распроститься с этим треклятым местом, я наскочил на человека, удобно расположившегося в сточной канаве. Упершись затылком в плиту тротуара и устремив взгляд на небо, он производил какие-то очень сложные вычисления на пальцах.
Он взглянул на меня, не поднимая головы.
— А, это вы, сударь, — забормотал он невнятно. — Вам следовало бы помочь мне подсчитывать звезды, сударь. Я насчитал их уже несколько миллионов, но боюсь — не пропустил ли какой-нибудь. Ведь благо человечества зависит всецело от статистики, сударь.
Тут он икнул и затем со слезой в голосе продолжал:
— Знаете ли вы, во что обходится каждая звезда?
Господь бог наверняка тратит на них колоссальные средства. А народу между тем не хватает хлеба, сударь. К чему же тогда все эти бесчисленные лампады? Разве они годятся на еду? Каково, спрашивается, их практическое применение? Очень-то нужна нам эта вековечная иллюминация! У бога, как видно, нет ни малейшего представления о политической экономии.
Ему удалось наконец сесть. Возмущенно мотая головой, он окинул все вокруг помутившимся взглядом, И тут только заметил мою спутницу. Лицо его побагровело, он вздрогнул и жадно раскрыл объятья.
— А-а! — воскликнул он изумленно. — Но ведь это же Та, что любит меня!
X…………………………………………………………………
— Ну вот, — говорила она мне, — я бедна и выкручиваюсь как могу, лишь бы не умереть с голоду. Я гнула по пятнадцати часов спину над шитьем всю прошлую зиму и все же не каждый день видела хлеб. Весной я вышвырнула иглу в окно. Подвернулось занятие более доходное и менее утомительное.
Каждый вечер я наряжаюсь в белый муслин. Удобно расположившись в кресле, я сижу одна в своем полотняном убежище и с шести до двенадцати улыбаюсь. Вот и вся моя работа. Время от времени я делаю реверанс, посылаю воздушный поцелуй в пространство. И получаю по три франка за сеанс.
Сквозь стеклышко, вделанное в перегородку, я постоянно вижу пристально рассматривающий меня глаз. То он черный, то вдруг делается голубым, Не будь этого глаза, я чувствовала бы себя превосходно. Он мне портит все. Когда я вижу устремленный вот так на меня один-единственный глаз, меня охватывает безумный страх, мне хочется закричать и убежать.
Но ведь надо работать, чтобы жить. И я улыбаюсь, я раскланиваюсь, я рассылаю поцелуи. А в полночь стираю румяна и переодеваюсь в свое ситцевое платье. Э, э! Сколько женщин, даже без всякой на то нужды, разыгрывают вот так комедию перед стеной!
Перевод И. Маркова
ФЕЯ ЛЮБВИ
Слышишь, Нинон, как осенний дождь барабанит по нашим окнам? В длинном коридоре жалобно стонет ветер. Скверный вечер. В такие вечера бедняки дрожат у роскошных подъездов богачей, веселящихся где-нибудь на балу, в ярком свете золоченых люстр. Снимай-ка свои шелковые туфельки и бальный наряд, Нинон, сядь ко мне на колени у пылающего камина: я расскажу тебе прекрасную волшебную сказку о маленькой фее.
Итак, Нинон: некогда на вершине крутой горы возвышался старый замок, мрачный и угрюмый, с башнями, валами и подъемными мостами на тяжелых цепях. Днем и ночью на зубчатых стенах его стояли закованные в стальные доспехи часовые, и только воины имели доступ к владельцу этого замка, графу Ангерран.
Если бы ты его увидела, этого старого рыцаря, Нинон, в тот момент, когда он прогуливался по длинным галереям замка, если бы ты услышала грозные раскаты его резкого голоса, ты бы затрепетала от ужаса, как трепетала его благочестивая хорошенькая племянница Одетта.
Случалось ли тебе видеть, Нинон, как под первыми поцелуями утреннего солнышка, среди крапивы и репейника, раскрывается венчик маргаритки? Так же, всегда окруженная суровыми воинами, расцветала и эта прелестная юная девушка.
В детстве при виде своего дядюшки она бросала игры, и глаза ее наполнялись слезами. С годами девочка стала красавицей; в груди ее теснились неясные желания; но теперь всякий раз при появлении рыцаря Ангерран она испытывала еще больший страх. Она жила в уединенной башне, целые дни проводя за вышиванием красивых знамен, а в часы отдыха молясь богу и любуясь из окошка изумрудными полями и лазурью небес. Сколько раз, поднявшись ночью с постели, девушка смотрела на звезды, и юное сердце ее с волнением устремлялось ввысь к небесным просторам, вопрошая своих лучистых сестер, что бы могло так сильно его тревожить.
После этих бессонных ночей, после этих порывов любви ей хотелось нежно прильнуть к груди старого рыцаря, но строгий взгляд и суровое слово удерживали ее, и она, трепеща, снова принималась за свое рукоделие. Тебе жаль ее, бедняжку, да, Нинон? Она была подобна свежему, ароматному цветку, прелестью и благоуханием которого, правда, пренебрегли.
Однажды, когда грустная Одетта следила мечтательным взором за полетом двух горлиц, до нее донесся от подножья замка сладостный голос; она склонилась из окна и увидела прекрасного юношу; в песне своей он просил ночлега. Одетта слушала, не понимая слов, но сладостный голос певца теснил ей сердце, и по щекам ее медленно текли слезы, падая на веточку майорана в ее руках.