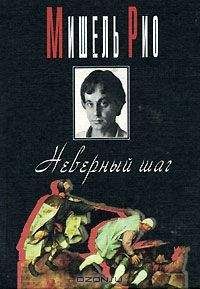Андре Жид - Имморалист
VII
Таким образом, вместо деятельности, вместо работы, я довольствовался физическими упражнениями, которые, конечно, были связаны с моей изменившейся моралью, но которые казались мне теперь только устремлением, средством и не удовлетворяли меня уже больше сами по себе.
О другом моем поступке, быть может, смешном в ваших глазах, я вам все же расскажу, так как в своей ребячливости он подчеркивает мучившее меня желание проявить во мне изменение моего существа: в Амальфи я побрился.
До этого дня я носил бороду и усы, а волосы на голове коротко стриг. Мне не приходило в голову, что я могу иметь другой вид. И вдруг, в тот день, когда в первый раз я лег голым на скале, борода мне помешала; это было как бы последней одеждой, которой я не мог снять; она казалась мне фальшивой; она была тщательно подстрижена не клинышком, а квадратно, и внезапно мне показалась неприятной и смешной. Вернувшись к себе в гостиницу, я посмотрелся в зеркало и не понравился себе; у меня был вид того, кем я был до сих пор, – археографа. Сразу после завтрака я спустился в Амальфи с готовым решением. Город очень невелик; мне пришлось удовольствоваться дрянной цирюльней. Был базарный день; помещение было полно народу; мне пришлось бесконечно долго ждать; но ничто, ни сомнительная бритва, ни желтая кисточка, ни скверный запах, ни болтовня цирюльника – ничто не могло заставить меня отступить. Когда я почувствовал, как под ножницами падает моя борода, мне показалось, что я снимаю маску. И все же, когда я потом увидел себя, чувство, охватившее меня, еле сдерживаемое, было не радостью, а страхом. Я не объясняю этого чувства, я констатирую его. Я нашел свои черты довольно красивыми… нет, страх происходил от того, что мне казалось, будто моя голая душа видна всем, и от того, что она вдруг показалась мне страшной.
Зато я отпустил волосы на голове.
Вот все, что мое новое, еще праздное существо могло совершить. Я думал, что из него родятся удивительные для меня самого поступки; но это попозже, говорил я себе, попозже, когда мое существо станет более полным. Принужденный жить в ожидании, я как Декарт, придерживался предварительного образа действий. Таким образом, Марселина могла еще ошибиться. Правда, мой изменившийся взгляд и особенно в тот день, когда я появился без бороды, новое выражение моего лица способны были обеспокоить ее, но она уже слишком меня любила, чтобы как следует меня видеть; к тому же я успокоил ее, как мог. Необходимо было, чтобы она не мешала моему возрождению; чтобы скрыть его от ее глаз, надо было притворяться.
Ведь тот, кого Марселина любила, тот, за кого она вышла замуж, это было не мое "новое существо". И я повторял себе это, чтобы заставить себя скрываться. Таким образом, я отдавал ей только свой образ, который становился изо дня в день тем лживее, чем более он был неизменен и верен прошлому.
Итак, пока что мои отношения с Марселиной оставались прежними, хотя с каждым днем все более взволнованными, потому что росла любовь. Даже мой обман (если можно назвать обманом потребность охранять мою душу от ее суда), даже мой обман усиливал нашу любовь. Я хочу сказать, что благодаря этой игре я непрерывно думал о Марселине. Быть может, эта необходимость лжи меня слегка тяготила; но я быстро пришел к убеждению, что худшие на свете вещи (ложь, например, не говоря о другом) трудны только до тех пор, пока их делаешь, но что каждая из них, и очень скоро, становится удобной, приятной, легкой к повторению и скоро совсем естественной. Как во всякой вещи, первоначальное отвращение к которой побеждено, я кончил тем, что стал находить удовольствие в самом этом обмане, увлекаться им, как игрой моих, еще неведомых мне, способностей. И с каждым днем я продвигался, в моей все более богатой и полной жизни, к более сладостному счастью.
VIII
Дорога из Равелло в Сорренто так прекрасна, что я в то утро не пожелал бы ничего более прекрасного в мире. Горячая жесткость скал, обилие воздуха, ароматы, прозрачность – все наполняло меня чудесным обаянием жизни, и этого было до такой степени достаточно, что, казалось, одна лишь легкая радость жила во мне; воспоминания и сожаления, надежды и желания, будущее и прошлое – молчали; я знал тогда о жизни только то, что приносило с собой и уносило мгновение. "О, телесная радость! – восклицал я. – Уверенный ритм моих мускулов! Здоровье!"
Я вышел рано утром без Марселины – ее слишком спокойная радость умерила бы мою, как и ее шаги замедлили бы мои. Она должна была приехать в экипаже в Позитано, где мы условились завтракать.
Я подходил к Позитано, когда шум колес, вторивший странному пению, заставил меня обернуться. Сначала я ничего не увидел из-за поворота дороги, которая в этом месте идет вдоль берегового обрыва; потом внезапно появился беспорядочно несущийся экипаж; это был экипаж Марселины. Кучер пел благим матом, размахивая руками, привставал на козлах и дико хлестал обезумевшую лошадь. Какое животное! Он проехал мимо меня, так что я едва успел посторониться, и не остановился на мой окрик… Я бросился вперед, но экипаж несся слишком быстро. Я одинаково трепетал, что Марселина выскочит из коляски или что она в ней останется; сделав скачок, лошадь могла вбросить ее в море… Вдруг лошадь надает. Марселина вскакивает, хочет бежать, но я уже подле нее. Кучер, завидев меня, накидывается на меня с ужасной бранью. Взбешенный поведением этого человека, я при первом же его ругательстве бросился на него и стащил с козел. Я покатился на землю вместе с ним, но не потерял превосходства над ним; он, казалось, растерялся от падения и вскоре был совсем ошеломлен, когда, видя, что он хочет укусить меня, я ударил его кулаком прямо в лицо. Я по-прежнему не отпускал его, придавив его грудь коленом и стараясь овладеть его руками. Я смотрел на его мерзкое лицо, еще более обезображенное моим ударом; он плевался, пускал слюну, ругался, у него текла кровь, у, гнусное существо! Поистине, я считал себя вправе задушить его, и, быть может, я бы это сделал… по крайней мере, я считал себя способным на это, и я почти уверен, что только мысль о полиции меня удержала.
Мне не без труда удалось крепко связать этого бесноватого. Я бросил его в экипаж, как мешок.
Ах, каким взглядом и какими поцелуями обменялись мы тогда с Марселиной! Опасность была невелика; но мне пришлось выказать свою силу – для того, чтобы защитить ее. Мне в эту минуту казалось, что я мог бы отдать свою жизнь за нее… и отдать ее с радостью… Лошадь поднялась. Предоставив коляску пьянице, мы оба уселись на козлах и, кое-как правя, добрались до Позитано, а потом до Сорренто.
В эту ночь я обладал Марселиной.
Ясно ли это вам, или я должен еще раз повторить вам, что я был новичком в делах любви. Быть может, именно моя неопытность придала такое очарование нашей брачной ночи… Потому что мне кажется, когда я теперь вспоминаю, что эта первая ночь была единственной, до такой степени ожидание и неожиданность любви усилили прелесть наслаждения, до такой степени одной ночи достаточно, чтобы воплотилась величайшая любовь; вот почему мое воспоминание так упорно возвращается только к этой одной ночи. Это было единое мгновение смеха, в котором слились наши души… И мне кажется, что в любви есть черта, единственная, которую душа позже, – ах, напрасно! – старается переступить; и что усилие, которое она делает, чтоб воскресить свое счастье, изнашивает ее; и что ничто так не мешает счастью, как память о счастье. Увы, я помню эту ночь…
Наша гостиница была за городом, окруженная рощами и плодовыми садами, наша комната выходила на обширный балкон; ветви деревьев касались его. Заря свободно вошла в наше широко раскрытое окно. Я тихонько приподнялся и нежно склонился над Марселиной. Она спала и во сне будто улыбалась. Я показался себе сильным рядом с нею, более хрупкой, и я почувствовал, что ее прелесть была непрочной. Неспокойные мысли закружились в моей голове. Я думал о том, что она не лжет, говоря, что я – все для нее; потом сразу же: "Что я делаю, чтобы принести ей радость? Почти каждый день я ее покидаю одну; она ждет от меня всего, а я ее бросаю… Ах, бедная, бедная Марселина!.." Мои глаза наполнились слезами. Напрасно я искал оправдания в моей прошедшей болезни; имел ли я теперь право на постоянные заботы о себе, имел ли право на эгоизм? Не был ли я теперь сильнее, чем она?
Улыбка сошла с ее лица. При свете все позолотившей зари она показалась мне теперь грустной и бледной; а может быть, приближение утра располагало мою душу к тоске. "Не придется ли мне в свою очередь когда-нибудь ухаживать за тобой, беспокоиться о тебе, Марселина?" – воскликнул я в глубине души. Я вздрогнул и, весь цепенея от любви, жалости, нежности, тихонько коснулся ее закрытых глаз самым нежным, самым влюбленным, самым набожным поцелуем.
IX
Те несколько дней, что мы прожили в Сорренто, были радостны и очень спокойны. Вкушал ли я когда-нибудь такой покой, такое счастье? Испытаю ли это когда-нибудь еще? Я был непрерывно подле Марселины. Занимаясь больше ею, чем собою, я испытывал от беседы с нею такую радость, как от молчания предыдущих дней.