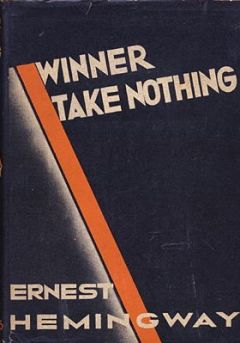Эрнест Хемингуэй - Праздник, который всегда с тобой
На выучке у голода
Когда в Париже живешь впроголодь, есть хочется особенно сильно, потому что в витринах всех булочных выставлены всевозможные вкусные вещи, а люди едят за столиками прямо на тротуаре, и ты видишь еду и вдыхаешь ее запах. Если ты бросил журналистику и пишешь вещи, которые в Америке никто не купит, а своим домашним сказал, что приглашен кем-то на обед, то лучше всего пойти в Люксембургский сад, где на всем пути от площади Обсерватории до улицы Вожирар тебя не смутит ни вид, ни запах съестного. И можно зайти в Люксембургский музей, где картины становятся яснее, проникновеннее и прекраснее, когда сосет под ложечкой и живот подвело от голода. Пока я голодал, я научился гораздо лучше понимать Сезанна и по-настоящему постиг, как он создавал свои пейзажи. Я часто спрашивал себя, не голодал ли и он, когда работал. Но решил, что он, наверно, просто забывал поесть. Такие не слишком здравые мысли-открытия приходят в голову от бессонницы или недоедания. Позднее я решил, что Сезанн все-таки испытывал голод, но другой.
Из Люксембургского сада можно пройти по узкой улице Феру к площади Сен-Сюльпис, где тоже нет ни одного ресторана, а только тихий сквер со скамьями и деревьями. И фонтан со львами, а по мостовой бродят голуби и усаживаются на статуи епископов. На северной стороне площади – церковь и лавки, торгующие разной церковной утварью.
Если отправиться отсюда дальше, к реке, то не минуешь булочных, кондитерских и лавок, торгующих фруктами, овощами и вином. Однако, тщательно обдумав, какой дорогой идти, можно повернуть направо, обойти вокруг серо-белой церкви и выйти на улицу Одеон, а там еще раз повернуть направо, к книжной лавке Сильвии Бич – на этом пути не так уж много заведений, торгующих едой. На улице Одеон нет ни кафе, ни закусочных до самой площади, где три ресторана.
Пока доберешься до дома двенадцать по улице Одеон, голод уже притупится, зато восприятие снова обостряется. Фотографии кажутся другими, и ты видишь книги, которых прежде никогда не замечал.
– Вы что-то похудели, Хемингуэй, – сказала Сильвия. – Вы хорошо питаетесь?
– Конечно.
– Что вы ели на обед?
Меня мутило от голода, но я ответил:
– Я как раз иду домой обедать.
– В три-то часа?
– Я не заметил, что так поздно.
– На днях Адриенна сказала, что хочет пригласить вас с Хэдли на ужин. Мы бы позвали Фарга. Вам он, кажется, симпатичен? Или Ларбо. Он вам, бесспорно, нравится. Я знаю, что нравится. Или еще кого-нибудь, кто вам по-настоящему по душе. Поговорите с Хэдли, хорошо?
– Я уверен, она с удовольствием пойдет.
– Я пошлю ей pneu 19. И не работайте так много, раз вы едите кое-как.
– Не буду.
– Ну, идите домой, а то опоздаете к обеду.
– Ничего, мне оставят.
– Только не ешьте ничего холодного. Хороший горячий обед – вот что вам нужно.
– Мне есть письма?
– По-моему, нет. Впрочем, сейчас посмотрю.
Она посмотрела, нашла письмо, весело мне улыбнулась и отперла ящик своей конторки.
– Письмо принесли в мое отсутствие, – сказала она.
Я взял конверт – на ощупь в нем были деньги.
– От Веддеркопа, – сказала Сильвия.
– Должно быть, из журнала «Квершнитт». Вы виделись с Веддеркопом?
– Нет. Но он заходил сюда с Джорджем. Он повидается с вами, не беспокойтесь. Наверно, он хотел сначала заплатить вам.
– Здесь шестьсот франков. Он пишет, что это еще не все.
– Как хорошо, что вы спросили меня про письма. До чего же он милый, этот мистер Очень Приятно!
– Чертовски забавно, что мои вещи покупают только в Германии. Он да еще «Франкфуртер цейтунг».
– Правда, забавно. Но не стоит огорчаться. Можете продать свои рассказы Форду, – поддразнила она меня.
– По тридцать франков за страницу. Скажем, по рассказу раз в три месяца в «Трансатлантих». Значит, за рассказ в пять страниц – сто пятьдесят франков в квартал, иначе говоря, шестьсот франков в год.
– Слушайте, Хемингуэй, не думайте о том, сколько вам за них сейчас платят. Важно то, что вы можете их писать.
– Знаю. Я могу писать рассказы. Но ведь их никто не берет. С тех пор как я бросил журналистику, я ничего не зарабатываю.
– Не огорчайтесь, их еще купят. Смотрите, за один вы ведь уже получили.
– Извините, Сильвия. Простите, что я заговорил об этом.
– За что же извиняться? Говорите, сколько угодно, и об этом, и о чем хотите. Разве вы не знаете, что писатели только и говорят что о своих бедах? Но обещайте мне, что перестанете волноваться и будете питаться как следует.
– Обещаю.
– Тогда отправляйтесь домой обедать.
Выйдя из лавки на улицу Одеон, я почувствовал отвращение к себе за эти жалобы. Всему виной моя собственная глупость. Надо было купить большой ломоть хлеба и съесть его, вместо того чтобы ходить голодным. Я даже почувствовал вкус румяной, хрустящей корочки. Но ее надо чем-то запить. "Ах ты, чертов нытик, вздумал корчить из себя святого мученика! – сказал я себе. – Ты бросил журналистику по доброй воле. У тебя есть кредит, и Сильвия всегда одолжила бы тебе денег. Так уже не раз бывало. Тут и сомневаться нечего. Но ты все стараешься найти себе оправдание. Голод полезен для здоровья, и картины действительно смотрятся лучше на пустой желудок. Но еда тоже чудесная штука, и знаешь ли ты, где будешь сейчас обедать?
У Липпа – вот ты где будешь есть. И пить тоже.
До Липпа было недалеко, и все те места на пути к нему, которые мой желудок замечал так же быстро, как глаза или нос, теперь делали этот путь особенно приятным. В brasserie 20было пусто, и, когда я сел за столик у стены, спиной к зеркалу, и официант спросил, подать ли мне пива, я заказал distingue – большую стеклянную литровую кружку – и картофельный салат.
Пиво оказалось очень холодным, и пить его было необыкновенно приятно. Картофельный салат был хорошо приготовлен и приправлен уксусом и красным перцем, а оливковое масло было превосходным. Я посыпал салат черным перцем и обмакнул хлеб в оливковое масло. После первого жадного глотка пива я стал есть и пить не торопясь. Когда с салатом было покончено, я заказал еще порцию, а также cervelas – большую толстую сосиску, разрезанную вдоль на две части и политую особым горчичным соусом.
Я собрал хлебом все масло и весь соус и медленно потягивал пиво, но оно уже не было таким холодным, и тогда, допив его, я заказал поллитровую кружку и смотрел, как она наполнялась. Пиво показалось мне холоднее, чем прежде, и я выпил половину.
«Вовсе я не волнуюсь», – думал я. Я знал, что мои рассказы хороши и что рано или поздно кто-нибудь напечатает их и на родине. Отказываясь от газетной работы, я не сомневался, что рассказы будут опубликованы. Но один за другим они возвращались ко мне. Моя уверенность объяснялась тем, что Эдвард О'Брайен включил рассказ «Мой старик» в сборник «Лучшие рассказы года» и посвятит этот сборник мне. Я рассмеялся и отхлебнул из кружки пива. Этот рассказ не был напечатан ни в одном журнале, и О'Брайен поместил его в сборник вопреки всем своим правилам. Я снова рассмеялся, и официант взглянул на меня. Смешно мне было потому, что при всем том мою фамилию он написал неправильно. Это был один из двух рассказов, оставшихся у меня после того, как все написанное мною было украдено у Хэдли на Лионском вокзале вместе с чемоданом, в котором она везла все мои рукописи в Лозанну, чтобы устроить мне сюрприз – дать возможность поработать над ними во время нашего отдыха в горах. Она уложила в папки оригиналы, машинописные экземпляры и все копии. Рассказ, о котором идет речь, сохранился только потому, что Линкольн Стеффенс отправил его какому-то редактору, а тот отослал его обратно. Все остальные рассказы украли, а этот лежал на почте. Второй рассказ, «У нас в Мичигане», был написан до того, как у нас в доме побывала мисс Стайн. Я так и не перепечатал его на машинке, потому что она объявила его inaccrochable. Он завалялся в одном из ящиков стола.
И вот, когда мы уехали из Лозанны в Италию, я показал рассказ о скачках О'Брайену, мягкому, застенчивому человеку, бледному, со светло-голубыми глазами и прямыми волосами, которые он подстригал сам. Он жил тогда в монастыре в горах над Рапалло. Это было скверное время, я был убежден, что никогда больше не смогу писать, и показал ему рассказ как некую диковину: так можно в тупом оцепенении показывать компас с корабля, на котором ты когда-то плавал и который погиб каким-то непонятным образом, или подобрать собственную ногу в башмаке, ампутированную после катастрофы, и шутить по этому поводу. Но когда О'Брайен прочитал рассказ, я понял, что ему больно даже больше, чем мне. Прежде я думал, что такую боль может вызвать только смерть или какое-то невыносимое страдание; но когда Хэдди сообщила мне о пропаже всех моих рукописей, я понял, что ошибался. Сначала она только плакала и не решалась сказать. Я убеждал ее, что, как бы ни было печально случившееся, оно не может быть таким уж страшным и, что бы это ни было, не надо расстраиваться, все уладится. Потом наконец она все рассказала. Я не мог поверить, что она захватила и все копии, подыскал человека, который временно взял на себя мои корреспондентские обязанности, сел на поезд и уехал в Париж, – я тогда неплохо зарабатывал журналистикой. То, что сказала Хэдли, оказалось правдой, и я хорошо помню, как провел ту ночь в нашей квартире, убедившись в этом. Но теперь все это было уже позади, а Чинк научил меня никогда не говорить о потерях; и я сказал О'Брайену, чтобы он не принимал этого так близко к сердцу. Возможно, даже и лучше, что мои ранние рассказы пропали, и я утешал О'Брайена, как утешают солдат после боя. Я скоро снова начну писать рассказы, сказал я, прибегая ко лжи только ради того, чтобы утешить его, но тут же понял, что говорю правду.