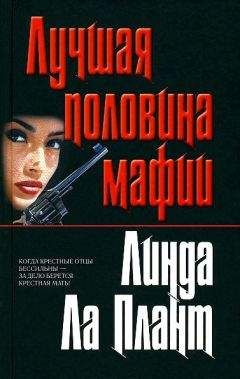Хуан Рульфо - Равнина в огне
И верно, не успел Хусто Брамбила уложить сонную Маргариту в постель, как сестра проснулась. Расслышав за перегородкой дыхание спящей дочери, она спросила: «Куда это ты, Маргарита, ушла вчера вечером?» Хусто Брамбила, не дожидаясь пока она раскричится и разбудит дочь, выскользнул из комнаты.
Было шесть утра.
Он вышел на скотный двор, чтобы растворить ворота для старика Эстебана. Надо было еще заглянуть наверх, в надстройку, убрать постель, где они с Маргаритой провели ночь. «Разрешил бы священник, я бы на ней женился. Да разве он допустит? Заикнись ему, такое поднимет… Кровосмешение, грех смертный! Обоих от церкви отлучит. Уж лучше тайком. Не тронь лиха…» — рассуждал сам с собой Хусто Брамбила, когда вдруг увидел, что старик Эстебан вцепился в бычка: ухватил костлявыми руками за опущенную морду, а ногами по голове, по голове. Того и гляди, насмерть забьет скотину, теленок уже еле стоит, копыта в разные стороны разъезжаются.
Хусто ринулся на старика, рванул за шиворот, бросил на камни и в бешенстве стал топтать сапогами, выкрикивая ругательства, смысла которых старик так и не понял. Но вдруг в глазах у Хусто потемнело, он почувствовал, что валится — валится наземь, на каменные плиты двора. Он попытался подняться, но снова упал. Потом упал в третий раз — и остался лежать. Он силился разомкнуть веки, но навстречу плыла какая-то черная муть. Боли не было, только все гуще и гуще надвигалась, туманя мысли, непонятная чернота, пока не закрыла собою все.
* * *Старик Эстебан поднялся на ноги, когда солнце уже стояло высоко в небе. Он двигался будто слепой, на ощупь, и при каждом шаге у него вырывался стон. Кое-как отворил он ворота и выбрался на улицу. Кое-как, вслепую, дотащился до своего дома, веки у него не разлипались, и там, где он проходил, на дорогу струйкой стекала кровь. Войдя в дом, он рухнул на кровать и снова впал в свое сонное забытье.
Часов в одиннадцать утра на скотный двор выбежала, вся в слезах, Маргарита. Она искала Хусто: мать все утро точила ее и под конец обозвала непотребной девкой.
Она его нашла. Хусто Брамбила лежал во дворе мертвый.
«А теперь говорят, я его убил. Может оно и правда. А может, это с ним от гнева удар сделался. Нравный он был, все ему не так, все не по нем. И кормушки, видишь ли, грязные. И воды в поилки не налито, и коровы отощали. Все не так. И я, дескать, больно уж тощий. Тоже, видишь, не по нутру. А с чего же мне в теле-то быть, если жрать нечего. Да и некогда. С зари до зари возле коров. На пастьбу гони стадо в Хикильпан — выгон он себе там купил; а напасутся — гони на зорьке обратно, домой. Вроде паломничества бессрочного.
И вот, видите, за решетку посадили. На той неделе суд надо мной будет, потому что, мол, я дона Хусто злодейски убил. А я не помню. Хотя, может, и так — убил. Кинулись друг на друга по злобе, сослепу, и невдомек, что один другого убивает. Все может быть. Годы мои такие, что память подводить начинает. Я и говорю, все в руке Божьей: лишат меня жизни — невелика потеря: сил-то во мне все равно никаких уж не осталось. А душу свою тебе, Господи, вручаю».
Снова окутался туманом Сан-Габриэль, снова кажется он издали мглистым, темным пятном, и только там вон, по краю синих гор, еще золотится солнечный свет. Потом спускается ночь. Но огни в окнах не загораются. Сегодня траур по дону Хусто, по хозяину, а огни в домах зажигали всегда лишь с его милостивого разрешения. Всю ночь до самой зари воют в Сан-Габ-риэле собаки. Всю ночь до самой зари горят за цветными стеклами церковных окон высокие свечи — идет ночное бдение над усопшим. Вплетаясь в ночную полудрему, поют женские голоса: «Освободи, Господи, души всех верных умерших от адских и чистилищных мук». Всю ночь до самой зари звонят по мертвому церковные колокола, и лишь с восходом солнца прерывает их обычный утренний благовест.
Тальпа
Наталия бросилась к матери на шею и заплакала. Плакала тихо, долго. Она много дней копила эти слезы в себе, сдерживала их — а пришли мы домой, в Сенсонтлу, и она увидела мать, тут ей, верно, и захотелось, чтобы ее утешили.
Но в те страшные дни, когда нам столько пришлось вынести, и даже потом, в Тальпе, когда мы с ней вдвоем, своими лишь силами — нам ведь ни одна живая душа не помогла — рыли яму, чтобы схоронить Танило, и голыми руками выдирали комья земли, да еще торопились скорей закопать, чтобы люди больше не пугались могильного этого духа, какой еще от живого от него шел, — нет, тогда Наталия не плакала.
И после — не плакала, когда мы назад возвращались, когда ночами шли и шли, не давая себе отдыха, словно хотели уйти от самих себя; да и не шли мы, а брели вслепую, как лунатики, и чудилось нам: не башмаки это наши стучат по дороге, а падают комья земли, погребая Танило. Наталия была как каменная: зажала свое сердце, чтобы и не слышать, что оно еще бьется. Ни слезинки за всю дорогу не проронила.
А домой пришли, упала матери на грудь и заплакала. Чтобы и мать ее горе почувствовала, узнала, какая у нее на душе тяжесть. Ну и нас, остальных, тоже от ее слез тоска взяла. А мне эти слезы прямо в сердце лились, будто она их из наших грехов выжимала, как выжимают воду из мокрой тряпки.
Вышло-то как? Убили мы Танило Сантоса, моего брата. Убили. Мы с Наталией. В Тальпу его повели, чтобы умер. И верно: умер он. Мы ведь знали, не вынести ему такой долгой дороги. Знали, а тащили силком, подталкивали, чтоб шел. Одного хотели — избавиться от него, кончить раз и навсегда. И прикончили.
Насчет Тальпы это брату Танило первому мысль пришла. Он сам придумал. Он уж который год все нас упрашивал свести его в Тальпу. Который год. С того самого дня, как проснулся утром, а у него руки и ноги все в багровых волдырях. Из волдырей этих вскорости язвы поделались, но только не кровь сочилась из них, а дрянь, желтая, густая, с виду на копаловую смолу схожа, и еще — жижа водянистая. Никогда не забуду, как он в ту пору стал говорить, боюсь, мол, не исцелиться мне от этой болезни. Вот он и надумал идти на поклонение Пресвятой Деве Тальпской — дескать, одного ее милостивого взгляда довольно, чтобы зажили его язвы. Он знал, что до Тальпы неблизкий путь и придется идти долго, в дневной жар и в ночной холод, дело-то в марте будет, но он все твердил: пойду, надо идти. Пресвятая смилуется, укажет средство против недуга, а то совсем ведь не заживают язвы, мокнут да мокнут. Пресвятой все ведомо, все в ее руке, какая бы на тебе грязь ни была, она все с тебя смоет, и воспрянешь ты для новой жизни, как поле после щедрого дождя. Упаду, говорит, перед ней на колени — и всем бедам моим конец, здоровым встану и забуду, когда у меня что и болело.
Вот мы с Наталией за это и ухватились: взялись отвести его в Тальпу. Я пойду, потому что я ему брат. И Наталия пойдет, ей-то уж непременно надо: она ему жена. Она и туда, а понадобится, и обратно под руку его поведет, поддерживать будет, при случае и плечо подставит — так, потихоньку-помаленьку, и дойдет он со своей надеждой до Тальпы.
А я уже знал, что у Наталии на сердце. Да, кое-что я про нее знал. Про ноги ее знал, что они круглые, крепкие и горячие, как камни в полдень под солнцем, и что одинокие они, и уже давно. Знал я про это. Но сколько ни случалось нам бывать с ней с глазу на глаз, всякий раз вставала между нами тень Танило: будто он свои руки в язвах между нами протягивал и уводил от меня Наталию к себе, чтоб и в мыслях ничего у нее не было, кроме как за ним ухаживать. И так — думалось мне — оно будет всегда, пока он жив.
Теперь Наталия кается, знаю. И я каюсь. Но сколько ни кайся, не будет нашей душе покоя до скончания дней. От совести не убежишь. Загрызет она нас, хоть Танило все равно не жилец был, и никакая Тальпа ему бы не помогла, тем более путь такой дальний. Не там бы помер — так здесь. Но здесь, конечно, малость бы еще протянул. Дорога-то последние силы у него съела, и крови сколько лишней вытекло, да и расстройство и мучение, вот оно все вместе его и доконало. Одно плохо. Как почувствовал он, что богомолье это ему без пользы, идти дальше не захотел, просить стал, чтобы мы с ним назад домой воротились, а мы с Наталией его не слушаем, силком тащим да еще подталкиваем, а упадет, с земли рывком поднимем и понукаем — раз уж взялся, мол, надо идти, куда мы теперь назад, до Тальпы меньше осталось, чем до дому. А на самом-то деле до Тальпы еще далеко было — много дней пути.
Просто мы смерти его хотели. Прямо скажу, мы еще дома, в Сенсонтле, перед тем как в путь двинуться, и потом в дороге, пока до Тальпы добирались, только об этом и думали. Сейчас вот и самим не верится, а тогда хотели, я это хорошо помню, хотели, чтобы он умер.
Да, врезались мне в память те ночи. Как свечереет, бывало, разожжем костер из сосновых веток, а прогорит он и уголья под пеплом погаснут, станет темно, тут мы с Наталией подымаемся и уходим, местечка какого-нибудь поукромнее ищем, чтобы Танило нас глазами не достал и чтобы звезды на нас с небес не глядели. Мало ли места в поле темной ночью? И оттого, что знаем: одни мы с ней, только поле кругом, — от пустоты, от темноты этой так нас друг к другу и кинет. Обойму ее всю, и вроде ей от этого легче станет, вроде отойдет от нее дневное, про все она позабудет, а после и уснет — тело расслабленное, покойное, будто от всех тягот она разом освободилась.