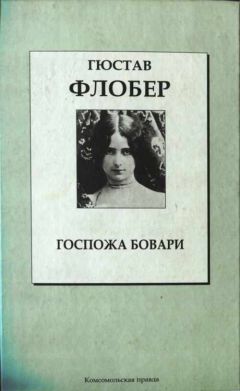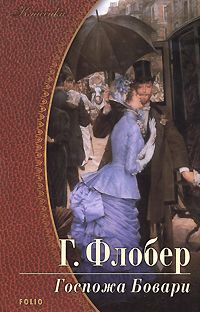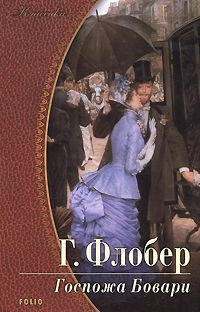Исаак Башевис-Зингер - Враги. История любви Роман
После ужина Герман пошел в свою комнату. Это была крошечная комнатка с окном, выходившим в маленький дворик, где стоял сарай со всяким хламом. Под окном росла трава и чахлое деревце. Кровать была не убрана. Повсюду валялись книги, рукописи, исписанные листы.
Подобно тому как Маша все время держала меж пальцев сигарету, Герман при любой возможности рисовал карандашом или ручкой. Он продолжал писать и рисовать даже на сеновале в Липске, когда хватало света, пробивавшегося сквозь щели в крыше. Ядвига предупреждала его, что бумажки могут привлечь внимание немцев. Он выводил каллиграфические буквы, украшая их вензелями, росчерками, завитками и штришками. Он рисовал чудовищ с оттопыренными ушами, длинными носами, круглыми глазами и окружал их змеями, трубами, рогами и лестницами.
Иногда, просто по привычке, Герман делал заметки к работе, которую когда-то должен был написать, но давно уже от этого отказался. Отголоски довоенных лет, когда Герман изучал философию и зарабатывал частными уроками. Одно время он преподавал в молодежной группе какой-то сионистской партии в пригороде Варшавы. Тамара давала уроки фортепиано.
Оба, и он и Тамара, выросли в зажиточных семьях. Тамарин отец, реб Шахна Лурия, торговал лесом и владел вместе с шурином предприятием, торгующим посудой. У него было всего две дочери — Тамара и Шева, или Стефа, как она себя называла.
Герман был единственным ребенком в семье. Когда началась война, он писал диссертацию на тему «Интеллект и характер в философии Шопенгауэра». Позже в разъездах он потерял рукопись. Работа получилась слишком объемной для диссертации. Герман набрал множество материалов в доказательство тезиса Шопенгауэра о том, что интеллект всего лишь подчиняется воле и готов найти оправдание и придать смысл любому абсурду, любому преступлению, любой безумной выходке. Он, Герман, даже попытался создать собственную систему — странное сочетание каббалы с идеями Спинозы и Шопенгауэра.
Из этих попыток ничего не вышло, но Герман приобрел привычку держать под рукой письменные принадлежности. У него всегда были с собой ручки и блокноты. Он по-прежнему останавливался перед витринами книжных магазинов, а в свободные часы ходил на Четвертую авеню порыться в старых книгах. Может быть, в нем еще теплилась надежда на то, что в какой-нибудь старой книге или запыленной рукописи он наткнется на откровение, открытие, новую истину…
Комнатка находилась под самой крышей, летом здесь всегда было жарко. Жара спадала только на рассвете. В открытое окно летела копоть из заводских труб. Маша часто меняла простыни и надевала на подушки чистые наволочки, но постельное белье все равно казалось грязным. В полу были дыры, ночью там скреблись мыши. Несколько раз Маша ставила мышеловки, но Герман не мог смотреть на страдания пойманных мышей. Посреди ночи он вставал и освобождал их.
Войдя в комнату, Герман сразу вытянулся на кровати. Он часто не отдавал себе отчет в том, насколько его тело напряжено и полно болезненных ощущений. Он страдал от ревматизма и ишиаса. По-видимому, у него была опухоль в позвоночнике. Герману не хватало терпения ходить по врачам, да он и не верил им. Усталость, приобретенная в годы оккупации, никогда не покидала Германа, разве только когда он занимался любовью с женщиной. После еды появлялась боль в животе. От малейшего сквозняка начинался насморк. Из-за часто воспалявшегося горла Герман все время хрипел. Что-то беспокоило в ухе: волдырь или нарост. Только одного ему удавалось избегать: температуры.
Наступил вечер, но небо за окном оставалось светлым. В нем зажглась одна-единственная звезда, сине-зеленая, невероятно далекая, не по-здешнему яркая и насыщенная. Прямой луч спускался из далекой вселенной прямо в глаза Герману, завораживая его. Это небесное тело (если это было действительно тело) сияло радостью насмешника. С космическим величием оно высмеивало физическую и духовную слабость червя, наделенного лишь одной способностью — страдать.
VДверь открылась, и вошла Маша с сигаретой во рту. В вечерних сумерках пятна света играли на ее лице. Зеленые глаза светились, словно сами по себе. Сколько раз Герман предупреждал ее, что своим курением она когда-нибудь устроит пожар, но Маша отвечала:
— Все евреи сгорят рано или поздно…
Она встала у двери и затянулась сигаретой. На мгновение жар от сигареты придал ее лицу фантастический пламенно-красный отблеск. Потом, отодвинув книгу с журналом, она присела на краешек стула и сказала:
— Отец небесный, здесь жарко, как в аду.
— В аду будет еще жарче, — ответил Герман.
В такой зной нелепо сидеть дома в одежде, но Маша не раздевалась, пока мать не уснет. Она постелила себе на диване в большой комнате.
Хотя Машин отец Меер Блох был безбожником, Шифра-Пуа соблюдала заповеди, вела кошерную кухню и даже надевала парик[28], когда ходила в синагогу в Дни трепета. По субботам она заставляла Меера Блоха произносить благословение на вино и петь гимны, а после трапезы он закрывался в кабинете и писал стихи на иврите…[29] Гетто, концентрационные лагеря и лагеря беженцев поколебали семейные устои матери и дочери. В доме, где Шифра-Пуа жила в гетто, мужчины и женщины спаривались друг с другом без стыда, словно животные. После того как Маша вышла замуж за Леона Торчинера в Германии, Шифра-Пуа жила с молодоженами в одной комнате, разгороженной ширмой.
Шифра-Пуа говорила обычно, что душа, как и тело, может вынести определенное количество ударов и потрясений, и не более того. Потом она перестает чувствовать боль. Здесь, в Америке, Шифра-Пуа молилась каждый день, часто закрывала волосы платком, накладывала на себя ограничения и давала обеты, на которые не решалась даже в Варшаве. Мысль о сожженных, отравленных газом, замученных евреях никогда не покидала ее. Она постоянно зажигала поминальные свечи — фитили в стаканах с парафином — в память о родных и друзьях. В еврейских газетах она читала только воспоминания беженцев; экономила на еде, чтобы покупать книги о Майданеке, Треблинке и Освенциме.
Другие выжившие рассказывали, что со временем все забывается, но ни Шифра-Пуа, ни Маша не относились к их числу. Наоборот, чем больше Катастрофа отдалялась от них, тем ближе она становилась. Маша нередко упрекала мать за то, что та постоянно оплакивает мертвых и пострадавших в Катастрофе, но как только мать замолкала, Маша принималась оплакивать их сама и богохульствовала в придачу. Вспоминая о жестокостях немцев, она подбегала к мезузе и плевала на нее… Шифра-Пуя всплескивала руками:
— Плюй, дочка, плюй. На этом свете мы горели в огне и на том будем гореть…
Машин развод с Леоном Торчинером и роман с Германом Бродером, женатым на нееврейке, казался Шифре-Пуе продолжением тех ужасных событий, которые начались в 1939 году и, как видно, вовсе не собирались заканчиваться. Несмотря на это, Шифра-Пуа привязалась к Герману, звала его «дитя мое» и, хотя он не был религиозен, задавала ему разные вопросы, поражаясь его познаниями в еврейской традиции. В библиотеке отца он изучил не только Талмуд с комментариями, но и некоторые разделы Шулхан Аруха.
Каждый день Шифра-Пуа просила в молитвах Всевышнего, чтобы Леон Торчинер добровольно развелся с Машей, Герман избавился от своей крестьянки, а сама Шифра-Пуа дожила бы до того счастливого дня, когда она поведет дочь под венец. Но по-видимому, ее заслуги перед Господом не были столь велики. Когда Шифра-Пуа оставляла в покое Машу, она начинала обвинять саму себя в том, что несправедливо обходилась с Меером, перечила родителям, уделяла недостаточно внимания Маше, когда та была маленькой и в ней еще можно было воспитать страх Божий. Самым ужасным своим грехом она считала то, что осталась в живых, в то время как все праведники и праведницы отправились в рай.
Герман слышал, как Шифра-Пуа возилась на кухне, мыла посуду и что-то бормотала. Она погасила и снова зажгла лампу, дочитала молитву и произнесла Кришме.[30] Потом приняла снотворное и пошла наполнить грелку горячей водой. Она не то говорила сама с собой, не то спорила с кем-то невидимым. Шифра-Пуа страдала от болей в сердце, печени, почках и мочевом пузыре. Раз в несколько месяцев ее состояние ухудшалось настолько, что врачи опускали руки, однако понемногу она снова приходила в себя.
Герман, положа руку на сердце, никогда не понимал отношений матери с дочерью. Они любили друг друга и без конца доставляли друг другу неприятности. Уличали одна другую в неправоте и в то же время готовы была пожертвовать собой. Их взаимные претензии восходили еще к тем временам, когда Меер Блох был жив. Кажется, у него завязался платонический роман с еврейской поэтессой, Машиной учительницей. Маша любила шутить, что любовь между отцом и поклонницей иврита началась с сильного дагеша[31] и достигла пика в тот момент, когда они поменялись очками: Меер Блох надел ее окуляры, а учительница нацепила его пенсне…