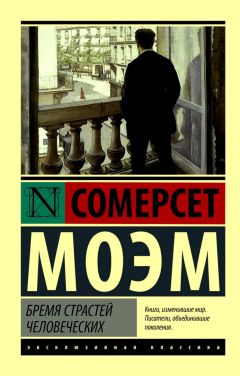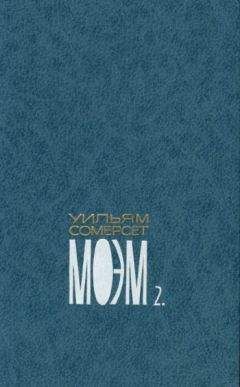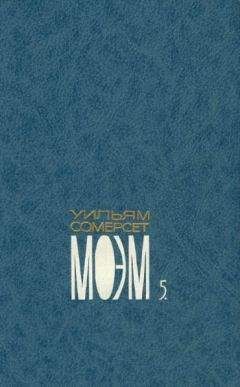Уильям Моэм - Собрание сочинений в пяти томах. Том первый. Бремя страстей человеческих. Роман
Приятели заказали пунш. Они стали его пить. Это был горячий ромовый пунш. Перо дрогнуло бы перед попыткой описать его совершенство; такая задача не под силу трезвому словарю и скупым эпитетам этой повести — возбужденное воображение ищет возвышенных слов, цветистых, диковинных оборотов. Пунш зажигал кровь и прояснял голову; он наполнял душу блаженством, настраивал мысли на остроумный лад и учил ценить остроумие собеседника; в нем была неизъяснимая гармония музыки и отточенность математики. Только одно из его качеств можно было выразить сравнением: он согревал, как теплота доброго сердца; но его вкус и его запах невозможно описать словами. Если бы за это взялся Чарлз Лэм, он бы со своим безупречным тактом мог нарисовать очаровательные картины нравов своего времени; или лорд Байрон, посвятив ему станс в «Дон Жуане» и добиваясь недостижимого, мог и достиг бы подлинного величия; Оскар Уайльд, рассыпая самоцветы Исфахана по византийской парче, наверно, сумел бы создать образы, полные чувственной красоты. В поисках сравнений ум бродил между видениями пиров Элагабала, утонченными мелодиями Дебюсси и пряным ароматом сундуков, где хранятся старинные наряды, кружевные брыжи, короткие панталоны, камзолы давно минувших дней; сюда надо добавить едва уловимое дыхание ландышей и запах острого сыра...
Хейуорд открыл кабачок с этим бесценным напитком, встретив на улице человека по фамилии Макалистер, с которым он учился в Кембридже; то был биржевой маклер и философ. Он посещал этот кабачок раз в неделю; вскоре Филип, Лоусон и Хейуорд стали встречаться здесь в вечерние часы каждый вторник. Мода изменчива, и в кабачке теперь бывало немного посетителей, что оказалось на руку любителям застольной беседы. У Макалистера, широкого в кости и приземистого для своей комплекции, были крупное мясистое лицо и мягкий голос. Последователь Канта, он судил обо всем с точки зрения чистого разума и страстно любил развивать свои теории. Филип слушал его с живым интересом. Он давно пришел к убеждению, что ничто не занимает его так, как метафизика, но не был уверен в ее пользе для житейских дел. Скромная философская система, которую он выработал, размышляя в Блэкстебле, не очень-то помогла ему во время его увлечения Милдред. Он сомневался, что рассудок может быть хорошим пособником в жизни. Похоже было на то, что жизнь течет сама по себе. Он ясно помнил, как властно владело им чувство и как он был бессилен против него, словно привязан к земле канатом. В книгах можно было вычитать много мудрых мыслей, но судить он умел только по собственному опыту (и не знал, отличается ли он в этом отношении от других). Решаясь на какой-нибудь шаг, он не взвешивал «за» и «против», не подсчитывал будущей выгоды или убытка — его неудержимо влекло куда-то, и все. Он жил не отдельной частицей своего «я», а всем своим существом в целом. Сила, во власти которой он находился, не имела, казалось, ничего общего с рассудком; рассудок его только указывал ему способ добиться того, к чему стремилась его душа.
Макалистер напомнил ему о категорическом императиве.
— «Действуй так, чтобы каждый твой шаг был достоин стать правилом поведения для всех людей».
— По-моему, это полнейшая чепуха,— сказал Филип.
— Вы смельчак, если отзываетесь так об одном из тезисов Иммануила Канта,— возразил Макалистер.
— Почему? Слепое преклонение перед чужим авторитетом сводит человека на нет; на свете и так слишком много идолопоклонства. Кант выводил свои законы не потому, что они были непреложной истиной, а потому, что он был Кантом.
— Ну а почему вы возражаете против категорического императива?
(Они спорили с такой горячностью, словно на весы была брошена судьба целых империй.)
— Закон этот предполагает, что человек может избрать свой жизненный путь усилием воли. И что лучший путеводитель — человеческий разум. Но чем веления разума лучше приказа наших страстей? Просто власть их различна, вот и все.
— Вам, кажется, нравится быть рабом своих страстей.
— Я раб своих страстей поневоле, мне это вовсе не нравится,— рассмеялся Филип.
Говоря это, он вспомнил горячечное безумие, которое толкало его к Милдред. Он вспомнил, как бунтовал против своей одержимости и как болезненно ощущал свое падение.
«Слава богу, теперь я от всего этого освободился»,— подумал он.
Но даже теперь он не был уверен, что не обманывает себя. Когда он находился во власти страстей, он чувствовал в себе необыкновенную силу, мозг его работал с удивительной ясностью. Он жил куда полнее в напряжении всех душевных сил, а это делало его нынешнее существование чуть-чуть бесцветным. Бурное, всепоглощающее ощущение жизни вознаграждало его за непереносимые страдания.
Впрочем, неосторожное заявление Филипа вовлекло его в спор о свободе воли, и Макалистер, обладавший обширными познаниями, приводил один аргумент за другим.
У него была врожденная любовь к диалектике, и он вынуждал Филипа противоречить самому себе; он загонял его в угол, откуда тому удавалось спастись только ценой тяжелых уступок; Макалистер опрокидывал его логикой и добивал авторитетами.
Наконец Филип признал:
— Я ничего не знаю о других людях. Могу сказать только о себе. Иллюзия, что воля моя свободна, так сильно во мне укоренилась, что я не в состоянии от нее избавиться, хотя и подозреваю, что это только иллюзия. Однако эта иллюзия является одним из сильнейших стимулов всех моих поступков. Прежде чем что-нибудь совершить, я чувствую, что у меня есть выбор, и это влияет на каждый мой шаг; но потом, когда поступок уже совершен, я прихожу к убеждению, что он был неизбежен с самого начала.
— Какой же ты отсюда делаешь вывод? — спросил Хейуорд.
— А только тот, что всякие сожаления бесполезны. Снявши голову, по волосам не плачут, ибо все силы мироздания были обращены на то, чтобы эту голову снять.
ГЛАВА 68
Как-то утром, вставая с постели, Филип почувствовал головокружение; он снова лег и понял, что заболел. Руки и ноги ныли, его знобило. Когда хозяйка принесла ему завтрак, он крикнул ей в открытую дверь, что ему нехорошо, и попросил чашку чая с гренком. Через несколько минут кто-то постучал в дверь и вошел Гриффитс. Они жили в одном доме уже больше года, но знакомство их ограничивалось тем, что они кивали друг другу, встречаясь на лестнице.
— Я слышал, вам нездоровится,— сказал Гриффитс.— Вот и решил зайти взглянуть, что с вами.
Филип, сам не зная почему, покраснел и стал уверять, что все это пустяки. Через часок-другой он будет на ногах.
— Лучше дайте мне измерить вам температуру,— сказал Гриффитс.
— Ей-богу же, это ни к чему,— с раздражением ответил Филип.
— Не упрямьтесь.
Филип сунул градусник в рот. Весело болтая, Гриффитс присел на край постели, потом вынул градусник и поглядел на него.
— Послушайте, дружище, вам надо полежать в кровати, а я приведу старика Дикона, пусть он вас осмотрит.
— Чепуха,— сказал Филип.— Ничего со мной не сделается. Не беспокойтесь обо мне.
— Какое тут беспокойство? У вас температура, и вам надо полежать. Верно?
У него была какая-то подкупающая манера говорить — озабоченный и в то же время мягкий тон. Филипу сосед показался чрезвычайно милым.
— Вы умеете найти подход к больному,— пробормотал Филип с улыбкой, закрывая глаза.
Гриффитс взбил его подушку, ловко расправил простыни и подоткнул одеяло. Он вышел в гостиную, поискал сифон с содовой водой и, не найдя его, принес сифон из своей квартиры. Затем он опустил штору.
— Теперь засните, а я приведу старика, как только он кончит обход.
Филипу показалось, что прошло несколько часов, прежде чем Гриффитс появился снова. Голова у Филипа раскалывалась, отчаянно ныли руки и ноги, он готов был расплакаться. Наконец в дверь постучали и явился Гриффитс — здоровый, сильный и веселый.
— Вот и доктор Дикон,— сказал он.
Врач подошел к постели — это был немолодой спокойный человек,— Филип видел его в больнице. Он задал несколько вопросов, быстро осмотрел больного и поставил диагноз.
— Ну а вы что скажете? — с улыбкой спросил он Гриффитса.
— Грипп.
— Совершенно верно.
Доктор Дикон оглядел убогую меблированную комнату.
— А вы не хотите лечь в больницу? Вас поместят в отдельную палату, и за вами будет лучший уход, чем тут.
— Я предпочитаю полежать дома,— сказал Филип. Ему не хотелось трогаться с места, к тому же он всегда чувствовал себя стесненно в новой обстановке. Ему неприятно было, что вокруг него станут хлопотать сестры, и его пугала унылая чистота больницы.
— Я за ним поухаживаю,— сразу же вызвался Гриффитс.
— Что ж, хорошо.
Он выписал рецепт, сказал, как принимать лекарство, и ушел.
— Ну, теперь извольте слушаться,— сказал Гриффитс.— Я ваша дневная и ночная сиделка.
— Это очень мило с вашей стороны, но мне, право же, ничего не нужно,— сказал Филип.