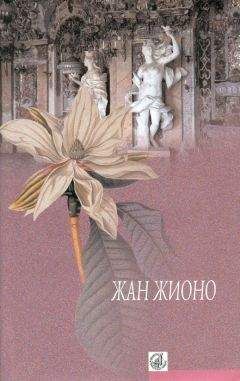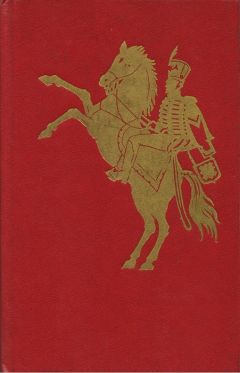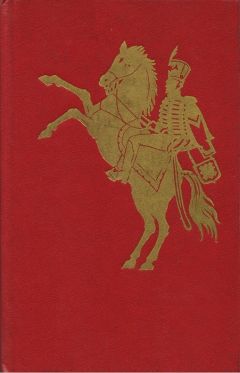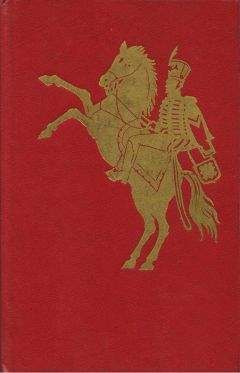Жан Жионо - Гусар на крыше
Не отчаяние, а скорее отсутствие надежды и, главное, физическая усталость все чаще заставляли его обращать взор в темноту ночи. Он искал не помощи, а покоя.
Полина, казалось, удалялась от него. Он не осмеливался заговорить с ней. Слова их недавнего хозяина все еще звучали у него в ушах. Он не забыл того, что тот говорил о трезвости мысли холерных больных, и он боялся трезвости этих уст, все еще продолжавших извергать белесую грязь.
Его удивляла и даже пугала пустота ночи. Он не мог понять, почему его до сих пор не пугал этот столь грозный мрак. Однако он не переставал растирать бедра и пах, на границе которых остановились холод и синева.
Наконец в голове у него замелькали обрывки красочных мыслей, всполохи яркого света, порой забавные и смешные, и, совершенно обессилев, он положил голову на все еще слегка вздрагивающий живот и заснул.
Он проснулся от боли в глазах. Он рассердился и открыл глаза. Было светло.
Он не мог понять, на чем мягком и теплом покоится его голова. Он видел, что до подбородка закрыт полами своего плаща. Он глубоко вздохнул. Прохладная рука прикоснулась к его щеке.
— Это я тебя закрыла, — сказал чей-то голос. — Тебе было холодно.
Он тотчас же вскочил на ноги. Голос казался знакомым. Полина смотрела на него почти человеческим взглядом.
— Я заснул, — сказал он самому себе, но вслух и очень жалобным голосом.
— Ты был совсем без сил, — сказала она.
Он задал несколько бессвязных вопросов, без всякой надобности прошелся два или три раза от ложа Полины до вьюка и обратно, не зная ни что он хотел взять, ни что нужно делать. Наконец он догадался пощупать пульс больной. Пульс был хорошего наполнения, и его частота не внушала опасений.
— Вы были больны, — сказал он очень серьезно, как будто пытаясь найти чему-то оправдание, — вы и сейчас еще больны, вам нельзя двигаться; я очень, очень доволен.
Он увидел обнаженные бедра и живот и покраснел до корней волос.
— Закройтесь хорошенько, — сказал он.
Он принес все свои вещи и устроил молодой женщине постель, обложенную горячими камнями. Он положил несколько камней к ступням и к ногам, почти до колен, двинуться дальше он не осмелился. Делая это, он невольно касался рукой тела, к которому, кажется, начало возвращаться тепло.
Утро было таким же радостным, как и накануне.
Анджело вспомнил о кукурузном отваре, которым Тереза поила его в детстве и который помогал от всего, особенно, кажется, от дизентерии. Он ни разу не вспоминал о кукурузном отваре, с тех пор как посвятил себя борьбе за счастье человечества. Но сегодня утром все о нем говорило: и воздух, и свет, и огонь. Он вспоминал эту клейкую, пресную, но очень освежающую настойку.
Он тотчас же вскипятил воду и очень хорошо приготовил свою настойку, не думая в этот момент ни о чем другом.
Молодая женщина с жадностью выпила кукурузный отвар. К полудню стало ясно, что судороги прошли.
— Я только чувствую себя совершенно разбитой, — сказала она, — но ты…
— Я совершенно в порядке, — ответил Анджело. — Мне достаточно видеть этот легкий румянец, появляющийся в нужном месте на ваших щеках. Здесь румянец никогда не бывает признаком лихорадки. Кстати, дайте-ка пощупаю пульс.
Пульс был лучшего наполнения и более спокойный, чем два часа назад. Оставшаяся часть дня была заполнена неустанными заботами и быстро рассеивающимися тревогами. Было тепло, Анджело совершенно не хотел спать, в голове не было ни одной мысли, но он бессознательно наслаждался пьянящим великолепием природы.
Он все время подогревал остывающие камни.
В конце концов молодая женщина сказала, что она чувствует себя мягкой и теплой, как цыпленок в своем яйце.
Спустился вечер. Из горсти кофейных зерен, которые им дал человек в сюртуке, Анджело заварил кофе.
— Ты продезинфицировался? — внезапно спросила молодая женщина.
— Конечно, — ответил Анджело. — Не беспокойтесь.
Он выпил кофе и полный стакан рома. Потом, завернувшись в свою куртку, лег около огня.
— Дай мне руку, — сказала Полина.
Он протянул открытую руку, и молодая женщина вложила в нее свою. Он уже засыпал. Сон казался ему надежным и спокойным убежищем.
«Горячие камни ведь больше уже не нужны», — подумал он.
— Ты порвал мою одежду, — сказала утром Полина. — Ты оторвал застежки от моей нижней юбки, и посмотри, что ты сделал с моими чудесными кружевными панталонами. Как я теперь оденусь? Я хорошо себя чувствую.
— Об этом не может быть и речи. Я выйду на тропинку в десяти шагах отсюда и буду караулить прохожего, чтобы послать его к станционному смотрителю. Наш мул ушел. И пожалуйста, не вздумайте вставать. Вас отвезут в карете. Сегодня вечером мы будем в Тэюсе.
— Я беспокоюсь за тебя, — сказала она. — У меня была холера, это совершенно очевидно. Ведь не от застежек нижней юбки и панталон у меня весь живот в синяках. Я, должно быть, была отвратительна! А ты, ты не сделал никаких глупостей?
— Сделал, но в таких случаях болезнь проявляется немедленно. Я обогнал смерть на одну ночь, и теперь ей меня не поймать.
Анджело стоял у дороги не больше пяти минут, когда со стороны Сен-Мартэна показалась пустая телега для перевозки корма. Он пошел ей навстречу. Телегой, которая везла вилы и старую женщину в красной юбке, правил глуповатый на вид крестьянин.
Анджело сказал им без обиняков, что там в кустах лежит женщина, которая была больна, но что теперь, когда она выздоровела, он просит их довезти ее до дома станционного смотрителя, за что он, конечно, заплатит. Последнее не произвело никакого впечатления ни на глуповатого мужчину, ни на старую женщину.
Они остановили повозку и не спеша пошли следом за Анджело.
— Да это же госпожа маркиза! — воскликнула старуха.
Она целую зиму была поденщицей в Тэюсе. Теперь она жила у своего малость придурковатого зятя. Она стала очень важно отдавать приказания. Наконец к трем часам пополудни Полину уложили на огромную, очень мягкую кровать в доме станционного смотрителя, и она заснула, обложенная грелками.
«Здесь никто не боится», — думал Анджело.
К нему обращались с тем почтением, которое могли внушить две золотые монеты, полученные от него по прибытии. Он краснел каждый раз, когда его величали «маркизом», и ему пришлось давать всяческие объяснения, чтобы рассеять это досадное недоразумение. Но ему так и не удалось до конца втолковать им, кто он такой. Каждый час Анджело выходил из обеденной залы и поднимался по лестнице. Он приоткрывал дверь комнаты, смотрел, как Полина спит, и даже иногда щупал пульс, который по-прежнему был великолепен. И черт побери, кровать здесь была кроватью, особенно когда на ней лежала молодая женщина, которая совсем не казалась больной. Если так выглядят все больные, то с чего же они там на равнинах и у моря подняли такой шум? Побывавшие там кучера уверяли, что у этой молодой женщины с такими красивыми волосами и всегда приветливой улыбкой не холера, а просто недомогание. По их мнению, маркиза (а старуха из Сен-Мартэна постаралась, чтобы никто не забывал, что Полина — маркиза) должна страдать всякими недомоганиями. Ну а что до маркиза, так ведь он молод. Еще и не такое увидит. «А в конце концов станет жить-поживать, как все, если, конечно, его не съедят эти проклятые мушки».
— Ты поедешь со мной в Тэюс? — спросила молодая женщина.
— Я не покину вас даже за метр от порога, — ответил Анджело. — Я нанял, оплатил и даже — у меня нет от вас секретов — оставил под охраной пятнадцатилетнего мальчишки (но на него можно положиться, он предан мне до смерти, а точнее, до кошелька, с тех пор как я ему показал свой) самый красивый, самый комфортабельный и быстрый кабриолет, какой только можно здесь найти. Я довезу вас до самого Тэюса. Вы подниметесь по лестнице, если она там есть, опираясь на мою руку, и я останусь у вас на два дня, — добавил он, радуясь, что краски вновь начинают играть на ее лице. — И не забудьте о длинном платье.
— Я боялась, что ты уже покупаешь лошадь, — сказала она. — Я слышала, как ты долго о чем-то разговаривал в конюшне. Я узнаю твой голос даже сквозь стены.
Наконец к нижней юбке, к юбке и даже к кружевным панталончикам были приделаны новые застежки. Кроме того, пришлось заштопать грубыми стежками тонкий батист, порванный и даже продырявленный ногтями Анджело, сильно отросшими за время путешествия, так как у него не было с собой ножниц.
Анджело испытывал некоторые угрызения совести из-за того, что поместил на постоялом дворе холерную больную, и он в туманных выражениях поделился своим беспокойством со станционным смотрителем, у которого было широкое, красное, словно мартовская луна, лицо.
— Я тут всякое вижу, — равнодушно ответил он.
«На самом-то деле, — подумал Анджело, — это ведь уже выздоровевшая холерная больная».