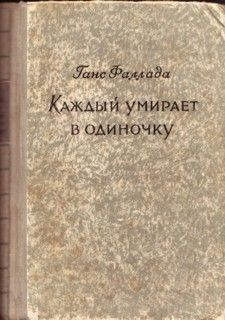Ганс Фаллада - Каждый умирает в одиночку
А те все звонят, кричат, барабанят…
Вот дурачье-то! Будто я из-за этого скорее открою! Плевать мне на них!
Сознание ее затуманено жаром, и ей ни на миг не приходит мысль ни о затерянных открытках, ни об опасности, которой чреват этот полицейский визит. Она радуется только, что больна и может не отворять.
Но они, понятно, все-таки входят в комнату, их пятеро или шестеро— должно быть вызвали слесаря или открыли дверь отмычкой. Цепочки не было, из-за болезни она, после ухода Отта, не накинула цепочки. Именно сегодня не накинула — обычно дверь всегда на цепочке.
— Вас зовут Анна Квангель? Вы жена мастера Отто Квангеля?
— Да, уважаемый. Двадцать восемь лет, как мы женаты.
— Почему вы не отворяли на звонки и стук?
— Потому что я больна. У меня грипп.
— Нечего ломать комедию! — перебивает ее толстяк в черном мундире. — Вы симулянтка!
Комиссар Эшерих умиротворяюще кивает начальнику. Даже ребенку видно, что эта женщина действительно больна. Может быть, и лучше, что она больна: многие болтают лишнее в жару. Пока его подручные приступают к обыску, комиссар снова обращается к больной. Он берет ее горячую руку и говорит участливо: — К сожалению, я должен сообщить вам неприятную новость, фрау Квангель…
— Да? — спрашивает она, но отнюдь не испуганно.
— Мне пришлось арестовать вашего мужа.
Она улыбается. Анна Квангель только улыбается Улыбаясь, она качает головой и говорит: — Нет уж, уважаемый, будет вам. Кто моего Отто арестует? Он честный человек. — Она наклоняется к комиссару и шепчет: — Знаете, уважаемый, что мне кажется? По-моему, все это мне только снится. Ведь у меня жар. Доктор сказал — грипп, а в жару всякое приснится. Вот мне все и снится — и вы и черный толстяк, — и тот, что у комода роется в моем белье. Нет уж, нет, вы не арестовали моего Отто, это мне только снится.
Комиссар Эшерих говорит тоже шопотом: — А теперь, фрау Квангель, вам еще снятся открытки. Знаете — открытки, которые постоянно писал ваш муж?
Но рассудок Анны Квангель не настолько помутился от жара, чтобы она не насторожилась при слове «открытки». Она вздрагивает. Одно мгновение взгляд, устремленный на комиссара, вполне ясен и зорок. А потом она говорит, снова улыбаясь и покачивая головой: — Какие открытки? Никаких мой муж не пишет открыток! Все, что приходится, всегда пишу я. Только мы уже давно никому не пишем. С тех пор, как погиб мой сын, мы никому не пишем. Это вам снится, уважаемый, будто мой Отто писал открытки!
Правда, комиссар видел, как она вздрогнула, но это еще не доказательство. — Вот видите, как раз с тех пор, как погиб ваш сын, вы и пишете открытки, оба пишете. Не помните, что вы написали в первой?
И он читает наизусть, с некоторой торжественностью в голосе: «Матери! Фюрер убил моего сына! Фюрер убьет и ваших сыновей, он не успокоится и тогда, когда внесет горе во все дома всего мира…»
Она слушает. Улыбается. Говорит: — Это писала какая-то мать! Мой Отто не писал этого, это вам просто снится!
А комиссар: — Это писал Отто, под твою диктовку! Сознавайся!
Но она качает головой: — Нет, уважаемый! Я такого не продиктую. У меня на это ума нехватит.
Комиссар встает и выходит из спальни. В общей комнате он вместе со своими помощниками принимается за поиски письменных принадлежностей. Он находит баночку чернил, ручку и перо, которые внимательно разглядывает, и открытку полевой почты. Со своими находками он возвращается к Анне Квангель.
Ее тем временем успел допросить на свой лад обергруппенфюрер Праль. Праль твердо убежден, что вся эта канитель насчет гриппа и жара — чистая брехня, что баба симулирует. Но будь она и в самом деле больна — на его методы допроса это ничуть не повлияло бы. Он хватает Анну Квангель за плечи, да так, чтобы ей было побольнее, и начинает ее трясти. Голова стукается о деревянную спинку кровати. Двадцать — тридцать раз дергает он ее кверху и сразмаху швыряет назад на постель и при этом бешено орет: — Будешь ты еще врать, старая сволочь? Будешь, будешь еще врать?!
— Не надо! — стонет она. — Не надо так!..
— Сознавайся — ты писала открытки! Сознавайся сейчас же! Не-то-я-тебе-баш-ку размозжу, красная сволочь!
И при каждом слове он стукает ее головой об кровать.
Комиссар Эшерих с письменными принадлежностями в руках, улыбаясь, наблюдает за ними с порога. Хороша манера допроса у господина обергруппенфюрера! Если это продлится еще пять минут, старуху нельзя будет допрашивать целых пять дней. Самая изощренная пытка не вернет ее в сознание.
Но для данной минуты это, пожалуй, не так плохо. Пусть тот немножко попугает и помучает ее, тем судорожней ухватится она за него, обходительного Эшериха!
Заметив, что комиссар стоит возле кровати, обергруппенфюрер перестает трясти свою жертву и говорит не то оправдываясь, не то укоряя: — Вы чересчур мягки с такими бабами, Эшерих! Их надо трепать, пока они не запищат.
— Конечно, господин обергруппенфюрер, разумеется, надо! Но разрешите мне сперва показать ей кое-что.
Он поворачивается к больной, которая лежит теперь в постели, тяжело дыша и закрыв глаза: — Послушайте-ка, фрау Квангель!
Она как будто не слышит.
Комиссар обхватывает ее и осторожно сажает. — Так, а теперь откройте глаза! — говорит он вкрадчиво.
Она открывает глаза. Эшерих рассчитал правильно — после тряски и угроз ей приятно слышать приветливый мягкий голос.
— Вы только что говорили мне, что у вас давно уже никто не пишет? А ну-ка взгляните на это перо. Им писали очень недавно, вчера или сегодня, чернила на нем совсем свежие! Смотрите, их можно отколупнуть ногтем!
— Я в этом не разбираюсь, — уклончиво отвечает фрау Квангель. — Спросите лучше мужа, а я в этом не разбираюсь.
Комиссар Эшерих пристально смотрит на нее.
— Отлично разбираетесь, фрау Квангель, — говорит он, уже несколько резче. — Только не хотите сознаться, потому что понимаете, что выдали себя.
— У нас никто не пишет, — упрямо повторяет фрау Квангель.
— И мужа вашего мне незачем спрашивать, — невозмутимо продолжает комиссар. — Он уже во всем сознался. Открытки писал он под вашу диктовку…
— Ну, и хорошо, раз Отто сознался, — говорит Анна Квангель.
— Дай этой наглой стерве в морду, Эшерих! — внезапно рявкает обергруппенфюрер. — Наглость какая — манежить нас столько времени!
Но комиссар не дает в морду наглой стерве. — Мы накрыли вашего мужа с двумя открытками в кармане! — говорит он вместо этого. — Куда же ему было отпираться!
Услышав про две открытки, которые она так долго искала в полубреду, фрау Квангель снова испуганно вздрагивает. Значит, он все-таки взял их с собой, хотя было твердо решено, что их завтра или послезавтра понесет она. Нехорошо поступил Отто.
Что-то произошло с открытками, с трудом соображает она. Только Отто ни в чем не сознался, иначе они не стали бы так рыться здесь и выспрашивать меня. Тогда бы они просто…
И она говорит вслух: — Почему же вы не привели сюда Отто? А то я ничего не знаю про открытки. Зачем ему писать открытки?
Она снова откидывается на подушки, плотно сомкнув глаза и губы, твердо решив не вымолвить больше ни слова.
С минуту комиссар Эшерих задумчиво смотрит на лежащую женщину. Она очень измучена, это ясно. Сейчас с ней ничего не поделаешь. Он резко поворачивается, зовет двух своих помощников и приказывает: — Переложите ее на вторую кровать, а эту тщательно обыщите! Прошу вас, господин обергруппенфюрер!
Он хочет выпроводить своего начальника из комнаты, ему совсем не нужно второго допроса в пралевском духе. Весьма возможно, что эта женщина в ближайшие дни очень понадобится ему, и тогда желательно, чтобы у нее сохранилась хоть крупица сил и сознания. Вдобавок, она, повидимому, принадлежит к той довольно редкой породе людей, которых физическое насилие только ожесточает. Побоями из нее явно ничего не выжмешь.
Обергруппенфюрер крайне неохотно уходит из комнаты. Он бы с этой старой шлюхой не стал миндальничать, он бы с ней расправился по-свойски! Именно на ней он охотнее всего выместил бы всю злобу за эту нудную канитель с невидимкой. Но тут как на грех вертятся эти два шпика, впрочем, все равно — сегодня вечером старая карга будет сидеть в подвале на Принц-Альбрехтштрассе, там он отведет на ней душу.
— Вы ведь заберете старую каргу, Эшерих? — спросил он в другой комнате.
— Конечно, заберу, — ответил комиссар, рассеянно глядя, как помощники с педантичной добросовестностью разворачивают и снова складывают белье, протыкают диван длинными иглами и выстукивают стены. — Только сперва надо привести ее в пригодное для допроса состояние, — добавил он. — Сейчас у нее жар, и она недоосмысливает всего. Она должна понять, что ее жизнь под угрозой. Тогда ей станет страшно…