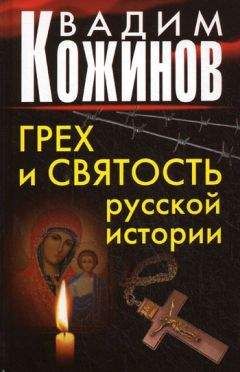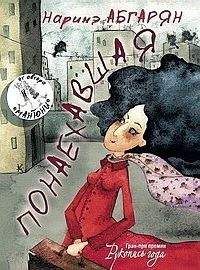Николай Лесков - На ножах
– Во вкусе можете не стесняться – blonde или brune[157] – это все равно; оттуда поза и фигура, а головка отсюда.
Горданов принял карточку и вздохнул.
– Конечно, нужно, чтобы стан как можно более отвечал телу, которое носит эту голову.
– Уж разумеется.
– И поза скромная, а не какая-нибудь, а lа черт меня побери.
– Перестань, пожалуйста, меня учить.
– И платье черное, самое простое черное шелковое платье, какое есть непременно у каждой женщины.
– Да знаю же, все это знаю.
– Лишний раз повторить не мешает. И потом, когда дойдет дело до того, чтобы приставить эту головку к корпусу дамы, которая будет в ваших объятиях, надо…
Горданов перебил ее и скороговоркой прочел:
– Надо поручить это дело какому-нибудь темному фотографщику… Найду такого из полячков или жидков.
– И чтобы на обороте карточки не было никакого адреса.
– Ах, какая ты беспокойная, уж об этом они сами побеспокоятся.
– Да, я беспокойна, но это и не мудрено; все это уж слишком долго тянется, – проговорила она с нетерпеливою гримасой.
– Ведь за тобою же дело. Скажи, и давно бы все прикончили, – ответил Горданов.
– Нет; дело не за мной, а за обстоятельствами. Я иду так, как мне следует идти. Поспешить в этом случае значит людей насмешить, а мне нужен свет, и он должен быть на моей стороне.
– Ну черт ли в нем тебе, и вряд ли это можно.
– Нет, извините, мне это нужно, и это можно! Свет не карает преступлений[158], но требует от них тайны. А впрочем, это уж мое дело.
– Позволь, однако, и мне дать тебе один совет, – заговорил Горданов, потряхивая в руке карточкой Синтяниной. – Ты, разумеется, рассчитываешь что-нибудь поставить на этой фотографии, которую мне заказываешь.
– Еще бы, конечно, мне это нужно не для того, чтобы раздражать мою ревность.
– Да перестань играть словами. А дело вот в чем: это ни к чему не поведет; на этот хрусталь ничто не воздействует.
– Ты бросаешься в игру слов: свет на него не воздействует?
– Не поверят, – отвечал, замотав головой, Горданов.
– Кому? Солнцу не поверят. Оставь со мною споры; ты мелко плаваешь, да и нам остается ровно столько времени, чтобы позавтракать и проститься, условясь кое о чем пред разлукой. Итак, еще раз: понимаешь ли ты, что ты должен делать? Бодростин должен быть весь в руках Казимиры, как Иов в руках сатаны[159], понимаешь? весь, совершенно весь. Я получила прекрасные вести. Казимира, как настоящая полька, влюбилась наконец в своего санкюлота… скрипача… Она готовилась быть матерью… Этим бесценным случаем мы должны воспользоваться, и это будущее дитя должно быть поставлено на счет Михаилу Андреевичу.
– Но тут… позволь!.. – Горданов рассмеялся и добавил: – в этом твоего мужа не уверишь.
– Почему?
– Почему? Потому что il a au moins soixante dix ans.[160]
– Tant mieux, mon cher, taut mieux! C est un si grand age.[161], что как не увлечься таким лестным поклепом! Он назовется автором, не бойтесь. Впрочем, и это тоже не ваше дело.
– Да уж… «мои дела», это, я вижу, что-то чернорабочее: делай, что велят, и не смей спрашивать, – сказал, с худо скрываемым неудовольствием, Горданов.
– Это так и следует: мужчины трутни, грубая сила. В улье господствуют бесполые, как я! Твое дело будет только уронить невзначай Казимире сказанную мною мысль о ребенке, а уж она сама ее разыграет, и затем ты мне опять там нужен, потому что когда яичница в шляпе будет приготовлена, тогда вы должны известить меня в Париж, – и вот все, что от вас требуется. Невелика услуга?
– Очень невелика. Но что же требуется? Чтоб он взял к себе этого ребенка, что ли?
– Нимало. Дитя непременно должно быть отдано в Воспитательный дом, и непременно при посредстве моего мужа.
– Ничего не понимаю, – проговорил Горданов.
– Право, не понимаешь?
– Ровно ничего не понимаю.
– Ну, ты золотой человек, лети же мой немой посол и неси мою неписаную грамоту.
Глава одиннадцатая
Бриллиант и янтарь
Бодростина достала из портфеля пачку ассигнаций и, положив их пред Гордановым, сказала:
– Это тебе на первую жизнь в Петербурге и на первые уплаты по твоим долгам. Когда пришлешь мне фотографию, исполненную, как я велела, тогда получишь вдвое больше.
Горданов взял деньги и поцеловал ее руку. Он был смят и даже покраснел от сознания своего наемничьего положения на мелкие делишки, в значении которых ему даже не дают никакого отчета.
Он даже был жалок, и в его глазах блеснула предательская слеза унижения. Бодростина смотрела на него еще минуту, пока он нарочно долго копался, наклоняясь над своим портфелем, и, наконец встав, подошла к нему и взяла его голову. Горданов наклонился еще ниже. Глафира повернула к себе его лицо и поцеловала его поцелуем долгим и страстным. Он ожил… Но Глафира быстрым движением отбросила от себя обвившие ее руки Горданова и, погрозив ему с улыбкой пальцем, подавила пуговку электрического звонка и сама отошла и стала против зеркала.
Приказав вошедшему на этот зов слуге подать себе счет, Глафира добавила:
– Возьмите, кстати, у барина письмо и опустите его тотчас в ящик. Слуга ответил:
– Слушаю-с.
И, взяв из рук Горданова письмо к Ларе, безмолвно удалился.
Глафира спокойно начала укладывать собственноручно различные мелочи своего дорожного багажа, посоветовав заняться тем же и Горданову.
Затем Бодростина посмотрела поданный ей счет, заплатила деньги и, велев выносить вещи, стала надевать пред зеркалом черную касторовую шляпу с длинным вуалем.
Горданов снарядился и, став сзади ее с дорожной сумкой через плечо, он смотрел на нее сухо и сурово.
Глафире все это было видно в зеркале, и она спросила его:
– О чем ты задумался?
– Я думаю о том, где у иных женщин та женская чувствительность, о которой болтают поэты?
– А некоторые женщины ее берегут.
– Берегут? гм! Для кого же они ее берегут?
– Для избранных.
– Для нескольких?
– Да, понемножку. Ведь ты и многие учили женщин, что всякая исключительная привязанность порабощает свободу, а кто же большой друг свободы, как не мы, несчастные порабощенные вами создания? Идем, однако: наши вещи уже взяты.
И с этим она пошла к двери, а Горданов за нею.
Сбежав на первую террасу лестницы, она полуоборотилась к нему и проговорила с улыбкой:
– Какой мерой человек мерит другому[162], такой возмерится и ему! – и снова побежала.
– Смотрите, чтоб это не приложилось и к вам, – отвечал вдогонку ей Горданов.
– О-о-о! не беспокойся! Для меня пора исключительных привязанностей прошла.
– Ты лжешь сама себе: в тс бе еще целый вулкан жизни.
– А, это другое дело; но про такие серьезные дела, как скрытый во мне «вулкан жизни», мы можем договорить и в карете.
С этим она вступила в экипаж, а за ней и Горданов.
Через полчаса Павел Николаевич, заняв место в первоклассном вагоне Петербургской железной дороги, вышел к перилам, у которых, в ожидании отхода поезда, стояла по другой стороне Бодростина.
Он опять совладал с собой и смирился.
– Ну, еще раз прощай, «вулкан», – сказал он, смеясь и протягивая ей свою руку.
– Только, пожалуйста, не «вулкан», – ответила еще шутливее Глафира. – Вулкан остался там, где ты посеял свой ум… Ничего: авось два вырастут. А ты утешься: скучать не стоит долго по Ларисе, да она и сама скучать не будет долго.
– Ты это почему знаешь?
– Да разве дуры могут долго скучать!
– Она не так глупа, как ты думаешь.
– Нет, она именно так глупа, как я думаю.
– Есть роли в жизни, для выполнения которых ум не требуется.
– Да; только она ни к одной из них негодна.
– Отчего же: очень много недалеких женщин, которые прекрасно составляют счастье мужей.
– Ты прав: великодушные дурочки. Да; это прекрасный сорт женщин, но они редки и она не из них.
– Ну, так из нее может выйти кому-нибудь путная любовница.
– «Никогда на свете! Успешное исполнение такой роли требует характера.
– Ну, так в дорогие камелии пригодится.[163]
– О, всего менее! Там нужен… талант! А впрочем, уже недолго ждать: le grand ressort et casse[164], как говорят французы: теперь скоро увидим, что она с собой поделает.
Раздался второй звонок.
Горданов протянул на прощанье руку и сказал:
– Ты умна, Глафира, но ты забыла еще один способ любить подобных женщин: с ними надо действовать по романсу: «Тебя томить, тебя терзать, твоим мученьем наслаждаться».
– А ты – таки достоялся здесь предо мной до того, чтобы проговориться, как ты думаешь с ней обойтись. Понимаю, и пусть это послужит тебе объяснением, почему я тебе не доверяюсь; пусть это послужит тебе и уроком, как глупо стараться заявлять свой ум. Но иди, тебя зовут.
Кондуктор действительно стоял возле Горданова и приглашал его в вагон. Павел Николаевич стиснул руку Глафиры и шепнул ей:
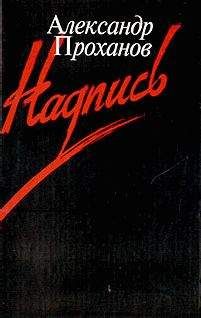
![Евгений Сартинов - Гороскопы всегда врут [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)