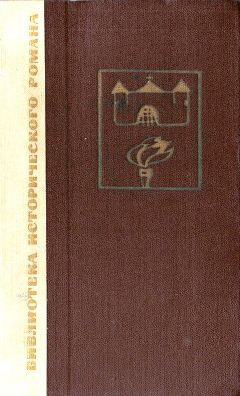Хосе Рисаль - Не прикасайся ко мне
— Мой зять ничего не сделал, а на нем наручники!
Ибарра повернулся к жандармам.
— Свяжите меня, только покрепче, локоть к локтю! — сказал он.
— Нам это не приказано.
— Связывайте!
Солдаты повиновались.
Появился альферес верхом на коне, вооруженный до зубов; за ним следовало еще десятка полтора солдат.
У каждого арестанта были в толпе родственники, которые просили за него, плакали по нем или называли его самыми нежными именами. Только о Ибарре никто не сокрушался: даже Ньор Хуан и школьный учитель исчезли.
— Что вам сделали мой муж и мой сын? — с плачем говорила Ибарре Дорай. — Взгляните на моего бедного сына! Вы его лишили отца.
Скорбь уступила место гневу. Все родственники пострадавших обрушились на юношу, упрекая его в том, что он — зачинщик мятежа. Альферес приказал увести заключенных.
— Ты трус! — кричала Ибарре теща Андонга. — Когда другие дрались за тебя, ты прятался, трус!
— Будь проклят! — сказал ему вслед какой-то старик. — Будь проклято золото, накопленное твоей семьей, чтобы нарушить нашу мирную жизнь! Проклятый! Проклятый!
— Чтоб тебя повесили, еретик! — кричала родственница Альбино; в неистовой ярости она схватила камень и швырнула его в Ибарру.
Ее примеру тут же последовали другие, и на несчастного юношу посыпался град камней и комьев земли.
Ибарра сохранял спокойствие; без возмущения, без жалоб сносил он справедливый гнев этих обезумевших от горя людей. Таково было напутствие, прощальное слово его города, где оставалось все, что было дорого его сердцу. Он опустил голову. Быть может, ему вспомнился человек, которого били на улицах Манилы, и старуха, упавшая замертво при виде головы своего сына; или, быть может, история Элиаса пронеслась в этот миг перед его глазами.
Альферес распорядился отогнать толпу, но камни и оскорбления по-прежнему сыпались со всех сторон. Одна только мать не мстила Ибарре за свои страдания: это была капитанша Мария. Сжав губы, неподвижно, молча глядела она полными слез глазами, как увозят обоих ее сыновей, — истинная Ниобея, окаменевшая в немом горе[176].
Повозка удалялась. Кое-где на ее пути раскрывались окна; больше всего сочувствовали юноше чужие или попросту любопытные люди. Все его друзья попрятались, даже сам капитан Басилио, строго-настрого запретивший своей дочери Синанг оплакивать его несчастную судьбу.
Ибарра увидел дымившиеся руины своего дома, дома, где жили его родители, где он родился, где прошли самые светлые дни его детства и отрочества. Долго сдерживаемые слезы брызнули из его глаз, он опустил голову и зарыдал, не имея даже возможности прикрыть лицо — руки у него были связаны за спиной — и не надеясь на чье-либо сострадание. Теперь у него не было ни родины, ни дома, ни любимой, ни друзей, ни будущего!
Какой-то человек — бледный, изможденный старец, кутавшийся в шерстяной плащ и тяжело опиравшийся на палку, наблюдал с холма за мрачным шествием. Это был старый философ Тасио; узнав о случившемся, он встал с постели, чтобы пойти к зданию суда, но силы ему отказали. Старец провожал взглядом повозку, пока она не скрылась вдали. Некоторое время он еще стоял, в раздумье опустив голову, потом выпрямился и, с трудом передвигая ноги, останавливаясь на каждом шагу, побрел домой.
На следующий день пастухи нашли Тасио мертвым на пороге его одинокого жилища.
LIX. Патриотизм и личные интересы
Секретное сообщение о происшествии было передано по телеграфу в Манилу, а тридцать шесть часов спустя, уснастив его множеством таинственных намеков и неменьшим числом угроз, газеты напечатали это известие, раздутое, исправленное и искаженное цензурой. В то же время по монастырям распространялись разные слухи, которые быстро подхватывались, передавались из уст в уста и вселяли ужас в людей. Событие приукрашивалось на все лады, и каждый верил рассказам в той степени, в какой дошедшая до него версия отвечала или противоречила его склонностям и образу мыслей.
Общественное спокойствие на первый взгляд не было нарушено, по крайней мере внешне, но домашние очаги уподобились водоемам, поверхность которых кажется зеркально гладкой, а на дне кишат, шныряют и преследуют друг друга безмолвные рыбы. Кресты, ордена, галуны, посты, звания, титулы, власть, влияние бабочками в дожде золотых монет замелькали перед глазами одних. Но для других собирались на горизонте темные тучи, на их свинцово-сером фоне рисовались черные силуэты решеток, цепей и даже зловещая перекладина виселицы. Повсюду, казалось, слышались допросы, приговоры, крики пытаемых; Марианские острова[177] и Багумбаян являлись взорам многих, подернутые рваной и окровавленной пеленой; в мутной воде смешались рыбаки и рыбы. Року было угодно изобразить это событие в воображении манильцев каким-то китайским веером: одна сторона — сплошь черная, другая — позолоченная, яркая, с птицами и цветами.
В монастырях царило страшное волнение. То и дело закладывались экипажи, приезжали священнослужители из провинций, устраивались тайные совещания. Монахи являлись во дворцы, чтобы предложить помощь «правительству, которому грозит страшная опасность». Снова заговорили о кометах, вещих снах, предсказаниях и т. д.
— Споемте «Te Deum! Те Deum!»[178], — говорил монах в одном монастыре. — На этот раз никто не будет обойден! Велика милость господа бога, показавшего всем именно сейчас, в наше грешное время, чего мы стоим!
— Этот маленький урок заставит генерала «Зловещего»[179] прикусить губу, — отвечал другой.
— Что стало бы с ним без наших орденов?
— И дабы лучше отпраздновать сие торжество, пусть за дело возьмутся брат повар и эконом! Будем пировать три дня подряд!
— Аминь! Аминь! Да здравствует отец Сальви! Ура!
В другом монастыре говорили иначе.
— Видите? Он — ученик иезуитов; из Атенео выходят одни флибустьеры! — заметил один монах.
— И безбожники.
— Я давно повторяю: иезуиты губят страну, портят молодежь, но их терпят, ибо они рисуют какие-то крючки на бумаге, землетрясения предсказывают.
— Одному господу ведомо, как они это делают!
— Так-то оно так, а попробуйте их тронуть! Когда все вокруг шатается и почва колеблется под ногами, кто еще будет чертить каракули? Только отец Секки…[180].
И они презрительно усмехнулись.
— Ну, а ураганы? А багио? — иронически спросил другой. — Это ли не чудеса?
— Любой рыбак их предскажет!
— Да, если у власти — дурак… Скажи мне, что у тебя в голове, и я скажу, какие у тебя лапы! Вот увидите, рука руку моет: газеты чуть ли не вымаливают митру для отца Сальви.
— И он ее получит! Он ее выцарапает!
— Вы так думаете?
— Еще бы! Теперь митру за любую чепуху дают. Я знаю одного, кому она досталась за меньшие заслуги: сочинил какую-то дурацкую книжонку, доказал, что индейцы ни к чему иному, кроме ремесла, не способны… Одни избитые фразы!
— Что правда, то правда! Такие несправедливости только вредят религии! — воскликнул другой. — Если бы митры имели глаза и могли видеть, на чьи черепа…
— Если бы митры были как природа… — прогнусавил третий. — Natura abhorret vacuum…[181]
— Потому они и прирастают к таким головам: их притягивает пустота! — заметил еще кто-то.
Это и многое другое говорилось в монастырях, но мы избавим наших читателей от прочих комментариев, политических, философских или просто пикантных. Мы лучше поведем читателя в дом частного лица, и так как в Маниле у нас мало знакомых, пойдем к капитану Тинонгу, гостеприимному человеку, который так настойчиво просил Ибарру почтить его дом своим присутствием.
В обширном, богато обставленном зале собственного дома в Тондо собралось все семейство капитана Тинонга. Убитый горем хозяин сидел в глубоком кресле, растерянно потирая лоб и затылок, а его жена, капитанша Тинонг, плакала и поучала мужа в присутствии двух дочек, которые слушали, забившись в угол, неподвижные, ошеломленные, немые.
— Ай, пресвятая дева де Антиполо! — кричала женщина. — Ай, пресвятая дева дель Росарио и де ла Корреа! Ай-яй-яй! Пречистая дева де Новаличес!
— Мама! — укоризненно прошептала младшая дочь.
— Я тебе говорила! — продолжала мать назидательным тоном. — Я тебе говорила! Ай, пресвятая дева дель Кармен, ай!
— Но ты же мне ничего не говорила! — осмелился возразить капитан Тинонг плачущим голосом. — Напротив, ты мне говорила, что хорошо бы почаще бывать у Тьяго и поддерживать с ним дружбу, потому что… потому что он богат… И ты мне говорила…
— Что? Что я тебе говорила? Я тебе этого не говорила, я тебе ничего не говорила! Ах, если бы ты меня слушал!
— Теперь ты все сваливаешь на меня! — с горечью возразил он, хлопнув ладонью по подлокотнику кресла. — Разве ты мне не говорила, что я правильно сделал, что пригласил его отобедать с нами, потому что он богат… Ты же говорила, что мы должны завязывать дружбу только с богатыми? Охо-хо!