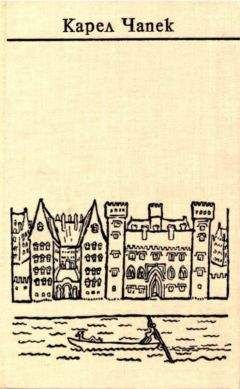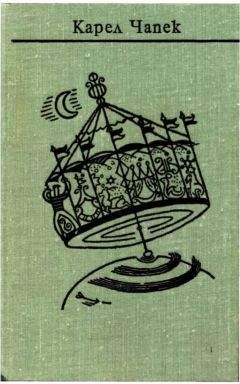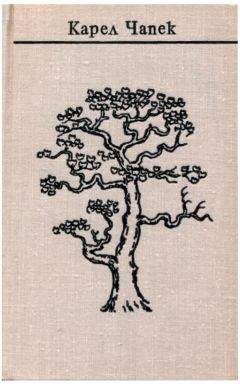Карел Чапек - Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 7. Статьи, очерки, юморески
— Да, это так, я не мог им насытиться.
И все же ты каждый раз оставлял то, что сделал; не успев найти искомое, ты опять начинал сначала: тебе всегда казалось, что ты недостаточно сдержан, ты никогда не мог замкнуться в форме, выношенной тобою.
— Я в отчаянии.
Чего же ты хочешь, безумец? Ты хочешь создать еще более ясное и достоверное произведение, достичь еще более продуманной формы? Еще более целомудренного и монашеского самоограничения?
— Я хочу воссоздать вещи такими, каковы они есть.
Ладно, значит, ты хочешь больше реальности, больше чуткости, больше конкретного сходства, больше содержания, больше суровой жизни, больше…
— К черту, я хочу найти оптимальный способ воплощения.
Горе тебе, ты ожесточился и никогда не договоришься с людьми.
— Да, а теперь отстань, дай мне писать картину.
Не скрою от вас: этим полотнам всегда будет недоставать некой высшей и абсолютно уравновешенной гармонии. У них острый привкус, они немного строги и суровы; есть в них нечто грубое и в то же время чопорное, они суровы и большей частью некрасивы; с первого взгляда они вам не понравятся.
Да, признаюсь, случай не из ясных и не из легких; не так-то просто представить себе симбиоз: упрямая, тяжеловесная и сдержанная страстность, интеллект, пытливый и прямолинейный, прокладывающий себе путь через диковинные труднодоступные области; раздольная, могучая река Духа с отпугивающими омутами, трезвый и методический анализ, в котором сквозит сумрачный и пагубный фатализм. Случай, повторяю, довольно сложный, и его не так-то легко подвести, — весь без остатка, как говорят немецкие философы, — под одну из предшествующих или существующих категорий. А я в заключение отказываюсь от намерения истолковать просто и гладко полотна, происхождение и структура которых зиждется на столь разнородных началах. Тут надо войти во вкус.
Я бы хотел, чтобы вам это удалось, ибо, утверждаю, вы не обманетесь ни в одной линии: здесь все скрупулезно выверено, все подлинно, ничто не сделано на глаз и не скользит по поверхности. Здесь не выставлена напоказ так называемая искра божья, думаю, что этот упрямец никакой «искры божьей» и не принял бы, поскольку не доверял бы ей. То, что им совершено, — оплачено кровью, строжайшей самодисциплиной и художнической волей. Но если вы глухи к таинству и неискупленности иррациональных сил души, вы не постигнете проникновенности и многообразия его творчества.
Что же касается плодотворных и весомых результатов, рожденных этой неукротимой и столь строгой к себе волей запечатлеть мир, — то не мне об этом писать.
О традиции[305]
© Перевод И. Порочкиной
Я озаглавил этим словом свою статью, чтоб оно было перед глазами. Но чем больше я на него смотрю, тем больше оно сбивает меня с толку. Традиция, как ее обычно толкуют, — это поддержание старых порядков (наверное, такое определение никуда не годится, но пока меня не перебивайте). Допустим. Но ведь пережиток — это тоже поддержание старых порядков. Я не знаю: парики английских судей — традиция или пережиток? Я не могу решить: университетский педель — пережиток или традиция? Если университетский педель достопочтенная традиция, в таком случае вызываемые им ассоциации с пятнадцатым веком — плюс. Если же, напротив, он мерзкий пережиток, то это — минус. Традиция — это поддержание старых устоев, потому что они стары. Пережиток — это поддержание старых устоев, хотя они стары.
Но еще больше хлопот с понятием «старый». Меховая мантия педеля для нас, обыкновенных и неисторических личностей, весьма устарела. Но для археолога она вызывающе нова. Недавно я вычитал у одного ученого, что скульптура на каких-то воротах «вполне современна», — она восходит к пятнадцатому веку. А для палеонтолога невзрачная двухтысячелетней давности римская или египетская амфора прямо-таки вызывающе нова. С другой стороны, возможно, что для майского жука прошедшая неделя — золотой век традиций, в то время как бактерия в моем стакане заботливо поддерживает древнюю традицию только что минувшего часа. Таким образом, традиция — это поддержание обычаев, которые в силу более или менее случайных и иррациональных причин мы считаем устаревшими.
Время от времени у нас провозглашают, что мы должны вернуться к традициям девяностых или восьмидесятых годов или даже к традициям наших будителей[306]. Примечательно не то, что это консерватизм чистой воды, а то, что явления двадцати-, сорока- или столетней давности мы считаем уже старыми. Не исключено, что в будущем году какие-нибудь новоявленные ретрограды станут взывать к древней поэтической традиции Иржи Волькера[307]. Возможно, кое-кто, обуянный консерватизмом, намеревается откопать из-под «наслоения» веков традицию Франи Шрамека[308]. Минувший век мы уже не считаем даже источником традиций, в то время как он мог бы запросто служить нам широкой базой современности. Вероятно, события и явления так быстро устаревают из-за недостатка исторической преемственности. К сожалению, именно поэтому и люди у нас старятся гораздо быстрее, чем в западных, исторически более древних странах.
Вообще, слово «старый» — понятие чуднóе, им нельзя оперировать всерьез. Для трехлетнего малыша пятилетний малыш слишком стар, двадцатилетний молодой человек непочтительно посмеивается над сединами старца тридцати лет, школьницы младших классов считают старикашкой выпускника. Вполне естественно, что для молодых людей пожилые люди — старые перечницы. Еще хуже, когда пожилые сами считают себя стариками. Например, писали, что нужно омолодить Чешскую Академию. Прекрасная идея. Я всецело за омоложение Чешской Академии, но за омоложение не в результате притока молодых, а в силу того, что отцы ее почувствуют себя пылкими юношами со всеми их преимуществами и возможностями.
С годами человек движется не только вперед, но и вспять. То, что двадцатилетнему кажется давно изжитым прошлым, в пятьдесят представляется удивительно близким, рукой подать. Мне не верится, что мафусаиловцы были такими уж прогрессивными, какими изображает их Бернард Шоу.[309] Я думаю, что вовсе не по причине регресса а именно в силу роста они постоянно приближаются к прошлому: они глубоко пускают в него корни, глубже, чем это способны сделать мы, люди недолговечные.
Что касается меня, то должен сознаться: даром историзма я не обладаю. Я не люблю старое, или, точнее говоря, необычайно люблю некоторые старые вещи, но не за то, что они стары, а за то, что они вовсе не устарели. Даже университетский педель в своем помпезном одеянии мне нравится, но не тем, что он архаичен, а тем, что он очень красочен, — следовательно, он более близок праздничной молодости, чем мы в своих сереньких пиджачках. Ярослав Дурих[310] обращается к Эрбену[311] не потому, что Эрбен стар, а потому что он ни капельки не устарел. Мы восхищаемся примитивным искусством древних народов не потому, что оно древнее, а за его удивительную молодость, и так далее…
Вот и все, что я хотел сказать. Нам подобало бы питать больше любви к прошлому и к старым вещам, потому что в них заключен неисчерпаемый запас фантастической молодости. Только люди, которые не были по-настоящему молоды, могут считать прошлое складом старых и ненужных вещей. Есть что-то старческое в разговорах о старых традициях. Если даже самые древние традиции не являются чертовски молодыми, то, честное слово, я не знаю, к чему они. А если они действительно стары, стало быть, они — пережиток.
1924
Век зрения[312]
© Перевод О. Малевича
Вы, очевидно, заметили, что в кино ходит чрезвычайно мало старых людей. Даже если вы примете во внимание, что старые люди, как правило, бывают более экономны, больше любят домашний уют и вообще не столь беспутны, как мы, все прочие, — этого еще недостаточно, чтобы объяснить, почему все же так мало их предается порочному удовольствию — глазеть на сие дьявольское изобретение, на эти светящиеся картинки. Старшее поколение проявляет к новомодному зрелищу явную неприязнь. Старшее поколение ворчит себе под нос что-то вроде «оставьте нас в покое с подобными глупостями» и охотнее раскроет вчерашнюю газету или роман пятидесятилетней давности. А между тем тот же самый роман пятидесятилетней давности разыгрывается на экране кинотеатра за ближайшим углом, и мы, все прочие, затаив дыхание, следим за мелькающими кадрами и недоумеваем, как можно читать столь архаическую дребедень. Заурядный фильм в подавляющем большинстве случаев гораздо ближе к Вальтеру Скотту, чем, например, к Виту Незвалу[313], и больше напоминает Жорж Санд, чем, скажем, Джорджа Шоу. Заурядный фильм не имеет совершенно никакого отношения к современной литературе, и, наоборот, он тесно связан с литературой старой; собственно, он является единственным прямым наследником старого романа. Представители молодого поколения даже не подозревают, что в кино они увлечены миром буйной фантазии своих невероятно отсталых отцов; а представители старшего поколения не догадываются, что движущиеся тени в кино, которыми они пренебрегают, — это плоть от их плоти, вернее, тень от их плоти. Таким образом, перед нами поистине типичный пример непримиримого противоречия поколений.