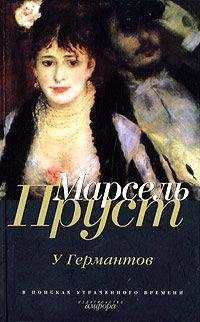Марсель Пруст - Обретенное время
И вдруг я понял, что если у меня еще найдутся силы исполнить мое произведение, то этот утренник, на котором я открыл и идею моего произведения, и узнал страх, что я не успею осуществить его, несомненно запечатлит для меня форму, некогда предчувствованную в комбрейской церкви, остающуюся нам обычно неведомой, форму Времени.
Конечно, наши ощущения подвержены большому числу ошибок, искажающих реальный облик мира, и самые разные эпизоды этого повествования поведали нам о том. В точнейшем переложении, которое я постараюсь создать, можно было бы, на крайний случай, не переставляя звуки, попытаться не извлекать их из причины, к которой рассудок приписывает их задним числом, — ведь если я отниму у дождя его тихую песню в комнате и солью с потопом во дворе кипение отвара, то, наверное, это не отвлечет сильнее, чем расхожие приемы художников — яркие цвета в картинах изображаются сообразно законам перспективы, очень близко или очень далеко от нас, и сперва обманувшийся взгляд показывает нам парус или пик вблизи, а затем рассудок перемещает их в даль. Я мог бы, хотя это более серьезное заблуждение, по-прежнему, как и раньше, приписывать какие-либо черты лицу прохожей, тогда как вместо носа, щек и подбородка там нет ничего, кроме пустой породы, на которой, самое большее, играет отсвет наших желаний. И даже если у меня и не хватит времени подготовить (что гораздо важнее) сотню масок, которые подошли бы одному и тому же лицу, даже если бы они были только проекцией смотрящих на него глаз, чувства, прочтенного ими в чертах, и, для тех же глаз, плодом надежды и страха или, напротив, любви и привычки, скрывающих на протяжении тридцати лет изменение возраста, — даже, наконец, если бы я не взялся — без чего, как показала мне связь с Альбертиной, все искусственно и ложно, — за изображение некоторых лиц не извне, но изнутри нас, где малейшие действия этих людей могут привести к смертельным бедствиям, и не перекрашивал бы также и цвет морального неба сообразно давлению нашей чувственности или простому облачку опасности, которое, взволновав нашу безмятежную уверенность, столь сильно умалившую предмет, в мгновение ока умножает его величину; даже если бы я не смог внести эти и множество других изменений (необходимость которых, если мы собираемся изображать реальность, может возникнуть по ходу рассказа) в транскрипцию универса, подлежащего полной переделке, то по меньшей мере я не упустил бы описание человека как предмета, обладающего длиной не только тела, но и лет, предмета вынужденного, — задача все более и более трудная, которая, в конце концов, сломит его, — двигаясь, волочить их за собою. Впрочем, то, что мы занимаем беспрерывно расползающееся по Времени место, чувствуют все, и эта всеобщность могла меня только обрадовать, ибо мне предстояло истолковать истину, о которой догадывается весь свет. Мы чувствуем, что занимаем место во времени, даже самые непритязательные люди определяют его на глаз с той же уверенностью, с которой мы определили бы наше место в пространстве, и даже не особо проницательные, встретив двух незнакомых мужчин (допустим, в их усах нет седины, или они гладко выбриты), скажут, что одному из них двадцать, второму сорок. Конечно, в этой оценке мы часто ошибаемся, но то, что ее принято считать возможной, свидетельствует: мы воспринимаем возраст как что-то измеримое. И действительно, второй мужчина с черными усами постарел на двадцать лет.
И если теперь во мне утвердилось намерение обрисовать идею накопленного времени, неотделимых от нас истекших лет, то только оттого, что даже в эти минуты, в гостях у принца де Германт, шум шагов моих родителей, провожавших Свана, мерцающие, железистые, неистощимые, визгливые и бодрые трели колокольчика, возвестившие мне наконец, что Сван ушел, что мама сейчас поднимется, — что я их слышал еще, я их слышал, какими они были, хотя они и покоились в отдаленном прошедшем. Между мгновением, когда я услышал их, и этим утренником Германтов невольно разместилось громадное количество событий, и я испугался, когда вспомнил об этом, потому что это был все тот же колокольчик, еще звеневший во мне, и я ничего не мог изменить в его прерывистом звоне, и поскольку я плохо помнил, как он умолк, и не мог повторить его, чтобы расслышать получше, я должен был затворить слух, чтобы мне не мешали все эти маски, болтавшие вокруг меня. Я должен был опуститься вглубь себя, чтобы расслышать его поближе. Значит, во мне всегда звенел этот колокольчик, и между его звоном и этим мгновением уместилось безгранично развернувшееся прошедшее, а я и не думал, что несу его в себе. Когда он зазвенел, я уже жил, и с тех пор, чтобы я по-прежнему мог слышать этот звон, не должно было возникнуть никакой прерывности, я обязан был думать и существовать, длить мысль о себе, поскольку это давнее мгновение еще держалось за меня и я мог к нему вернуться, обратившись к глубинам души. И именно потому, что они нагружены часами прошлого, человеческие тела могут сделать столько зла тем, кто их любит, потому что в них заключены бесчисленные воспоминания о радостях и желаниях, уже бесцветных для их глаз, но слишком ярких для того, кто созерцает и удлиняет в строе времени любимое тело, ревнуемое им так сильно, что он мечтал бы его разрушить. Ибо после смерти Время покидает тело, и незначимые и блеклые воспоминания уже изгладились в той, которой больше нет, они изгладятся скоро и в том, кого еще мучат, в котором они в конце концов погибнут, когда желание живого тела больше не затеплит их жизнь.
Я испытал усталость и страх, представив, что это долгое время сплошь прожито, продумано, порождено мной, что оно стало моей жизнью, мною самим, что я непрерывно должен был держаться за него, что оно несет меня, взгромоздившегося на его головокружительную вершину, и невозможно и тронуться, не переместив ее. Точка, в которой я услышал звон колокольчика в комбрейском саду, была далека и вместе с тем внутри меня, она была ориентиром в бескрайних величинах, хотя и сам я не подозревал, что такой ориентир существует. У меня закружилась голова, когда я увидел внизу и при всем том в себе, — как если бы во мне было много лье высоты, — великое число лет.
И я понял, отчего герцог де Германт, чьей моложавостью я восхищался, пока он сидел на стуле, хотя под его ногами было гораздо больше лет, чем под моими, привстав и силясь устоять на колеблющихся ногах, затрясся, как иные старые архиепископы, у которых если и есть что-то прочное, то только металлический крест, когда к ним поспешают юные крепкие семинаристы, — и не смог и ступить, не дрожа, как лист, по непроходимой вершине восьмидесятитрехлетия, будто люди стоят на постоянно растущих, подчас выше колоколен, живых ходулях, отчего, в конце концов, их передвижения становятся трудны и опасны, и они падают. (Не от того ли несведущим глазам было так трудно спутать лица людей определенного возраста с лицами молодых, проступавшим сквозь них, как своего рода облако?) Меня ужаснуло, как высоки мои, мне подумалось, что я еще недолго смогу удерживать это прошлое, опускавшееся столь глубоко. Все-таки, если мне отпущено достаточно сил, чтобы исполнить мою работу, то прежде всего я опишу людей, даже если в результате они будут походить на чудовищ, и их место, подле такого ограниченного, отведенного им в пространстве, место, напротив, безмерно вытянутое, поскольку они синхронно касаются, как гиганты, погруженные в года, самых удаленных эпох, между которыми может уместиться столько дней — во Времени.
Конец.
Примечания
1
Комбре — вымышленное место летнего отдыха семьи первого лица повествования. Топография разработана в первой части романа «По направлению к Свану». Сторона Мезеглиза и сторона Германтов — два направления детских и юношеских прогулок героя, в романе наделены почти метафизическим значением. «Сторона Германтов олицетворяет собой путь духовных и беллетристических исканий, мечтаний, сторону „аполлоническую“, сторона Мезеглиза (она же — „сторона к Свану“) „дионисическую“ сторону чувственного опыта, первого контакта с пороком» (A. Морелло). Ниже: правда, в обратном направлении — герой теперь сам «на стороне Мезеглиза» (в Тансонвиле, где находится дворец Германтов).
2
Теодор упоминается в первом томе. В частности, он помогает Франсуазе заботиться о тетке Евлалии.
3
В последних изданиях этот фрагмент включается в роман «Беглянка». Мы следуем прежним.
4
Тема «непроизвольной памяти» (читатели «Поисков» уже знакомы с ней по роману «По направлению к Свану») впервые возникает в раннем романе «Жан Сантей», затем она входит в «Против Сент-Бева», что, в конечном счете, предопределило отказ Пруста от работы над ним и начало работы над «Поисками». Ниже эта тема будет теоретически обоснована.
5