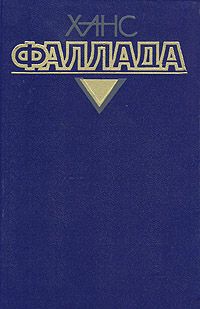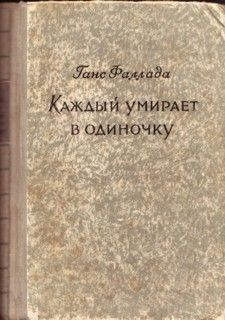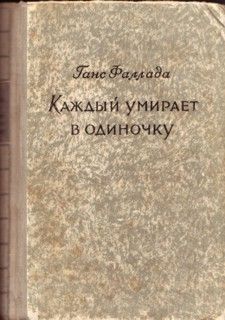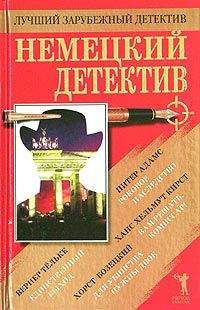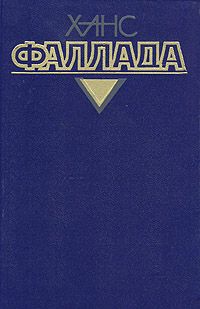Ханс Фаллада - Кто хоть раз хлебнул тюремной баланды...
Дитрих открыл глаза, и тут же они у него снова закрылись, он промычал что-то и снова заснул. А Фреезе уже повесил на шею ему табличку.
— Вот, читать ты еще не разучился?
Печатными буквами углем на ней намалевано было слово «Соблазнитель»…
Сначала все почернело в глазах у Куфальта, потом поплыли красные круги. Ему показалось, будто его рука сама схватила пивную кружку и размахнулась ею… он еще отчетливо слышал, как взвизгнула толстая Минна: «Осторожно, Фреезе, сейчас бросит…» Слышал ехидное хихиканье Фреезе.
А потом раздалось: «Буль, буль, буль, буль!»
Рука об руку с Фреезе он стоял на берегу Трены, в сером тумане брезжило утро, у сваи фабричного двора булькала серая маслянистая вода, он слышал, как Фреезе сказал:
— Трена берет свое начало у Рутендорфа, ниже Гальгенберга, в нее сливают сточные воды тридцать кожевенных фабрик и дубильных цехов нашего родного города. Она известна как рассадник возбудителя сибирской язвы… Трена…
Но когда после обеда он проснулся, от всего этого у него осталось только смутное, призрачное воспоминание.
Ему все приснилось, наверняка ему все только приснилось, но все равно Новый год начался таким нехорошим сном.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Крах
Прошел декабрь с приятным легким морозцем, на его место заступил январь с дождями и слякотной погодой. Вздыхая, Куфальт достал из шкафа вместо красивого черного пальто желтый, похожий на мешок, прорезиненный плащ.
Декабрь был самым удачным месяцем в жизни Куфальта. Январь начался с полосы чудовищных неудач. До распродаж было еще далеко, начинались они двадцать первого января, и никто не хотел подписываться на газету.
Куфальт стоял и говорил, и уговаривал, если ему вообще давали говорить. Его слушали, а затем отвечали, он-де знает, как сейчас, после праздника, туго с деньгами, или же говорили прямо, без обиняков, что «Друг» все-таки лучше «Вестника». «Вестник» не публикует даже четверти семейных объявлений «Друга», а уж по крайней мере их нужно читать.
В отдельные дни было по шесть, семь и даже десять — двенадцать неудач подряд, а с неудачами пришло и уныние. И тогда Куфальт битых десять минут стоял у двенадцатиквартирного дома, не решаясь зайти, ходил взад-вперед по улице, мокнул под мелким дождем. Самое разумное идти домой, сесть у теплой печки и вздремнуть…
Но блокнот с квитанциями был пуст, а господин Крафт в четыре ожидал от него шесть новых подписчиков, у него была подленькая манера говорить:
— Так, сегодня только два? Сегодня только два, только два!
При этом он шелестел бумагами.
— Кстати, тридцать семь ваших новых декабрьских подписчиков отказались продлить подписку на «Вестник». Вообще в подписке мало толку…
— Разве это моя вина? — раздраженно спрашивал Куфальт.
— А кто говорит о вине! — равнодушно отвечал Крафт, продолжая шелестеть бумагами. — Вы нервничаете, Куфальт.
Но хотя и осталось невыясненным, что, собственно говоря, действительно произошло в новогоднюю ночь, тем не менее Фреезе был сама приветливость. Да, он стал еще приветливее.
— Вам холодно? — осведомлялся он. — Тогда станьте рядом с моим верным слугой Фридолином, сегодня я ему как следует наподдал! Кстати, у меня есть работенка для вас.
Он рылся в бумагах.
— Тут у меня киношная реклама. Эту дрянь я не смотрел. Вычеркните двадцать строчек и всю ерунду. Вот вам полтинник.
Куфальт хотел было возразить.
— Нет-нет, Куфальт, даром только смерть. И даром она только для умерших. Так что спрячьте-ка полтинник: придет день…
Не изменился… Не изменились и намеки, и пропитой вид, и грубая оболочка, скрывавшая сомнительного качества душу.
Не изменилось и восхищение папаши Хардера способностями Куфальта. Но изменилась, очень изменилась Хильда. Не было больше ни одного добровольного поцелуя. Она почти не разговаривала, стихов и пения вдвоем не было и в помине.
Было полдесятого. Госпожа Хардер подала сигнал прощаться, пожелали друг другу спокойной ночи, жених и невеста остались одни, приличия ради ему нужно было посидеть еще с полчасика.
Он встает, закуривает сигарету, проходится взад и вперед по комнате.
— Ветер какой, — говорит он и останавливается, прислушиваясь к шуму за окном.
— Да, — отвечает она и, не поднимая головы, продолжает вышивать монограмму.
— Хорошо бы остаться на ночь здесь, — говорит он и, смутившись, смеется.
Она не отвечает.
Какое-то мгновение он выжидает, а затем начинает снова ходить взад и вперед. Долго думает и наконец спрашивает:
— Сегодня малыш лучше ел, Хильда?
— Нет, — говорит она и вышивает дальше.
Он ходит, думает, а маятник на стене отстукивает: тик-так, тик-так. Наконец снова короткий вопрос и односложное «нет» или «да».
Но лампа горит так тускло; когда он смотрит на склоненный темный пробор, на белую полоску кожи между волосами и красным воротничком джемпера, когда он смотрит и думает, сколько он причинил ей боли и, может быть, еще причинит, ему хочется открыться, открыть душу:
— Слышишь, Хильда…
Она вышивает.
— Послушай, Хильда…
Он подходит к ней совсем близко.
Она чуть отодвигается от него.
— Да?
И, продолжая вышивать, не смотрит вверх.
Он предпринимает еще одну попытку.
— Ты на меня обиделась, Хильда?
— Я?.. За что?
Но не ее холод, не отказ мешают ему говорить — он ведь чувствует, что причина отказа просто уязвленное самолюбие, мешает что-то другое.
Та ночь и белая картонка с печатными буквами ему просто привиделись.
Может быть, покаяться, а вдруг ей нечего мне сказать? Оскорбленная гордость, да, но ведь и я имею право…
И чуть погодя: «Разве я не знал? Ребенок без отца, с первых минут это было известно. Конечно, она права, но ведь она могла бы…»
Нет, ничего, одна болтовня. Все исчезает. Ничего не происходит. Он шагает взад и вперед с сигаретой в зубах. Проходит долгое время, прежде чем он спрашивает:
— А подушки ты уже обшила, Хильда?
— Еще нет, — отвечает Хильда.
Нет, ничего не происходит, и разве можно назвать происшествием то, что однажды он отправляется на Волленвеберштрассе, 37, поднимается по лестнице на четвертый этаж и спрашивает господина Дитриха?..
Разумеется, господин Дитрих дома, и Куфальта безо всяких разговоров впускают к нему в комнату.
Господин Дитрих в одежде, правда, без галстука и воротничка лежит в шезлонге и спит с открытым ртом. Время — около двенадцати.
— Господин Дитрих, — с порога окликает его Куфальт.
— Привет, Куфальт, — бодрым голосом отзывается Дитрих и рывком садится. — Выпейте-ка со мной коньяку.
— Я только хотел отдать вам двадцать марок, — говорит Куфальт и кладет коричневую ассигнацию на столик.
— Но ведь с этим не обязательно торопиться! Расписки, наверное, вам не нужно?..
Господин Дитрих свернул ассигнацию в трубочку и засунул ее в карман жилетки.
— Ну, присаживайтесь. Да вы совершенно промерзли, дружище. И в такую погоду вы собираете подписку? А где вы теперь собираете подписку?
— На севере, — говорит Куфальт. — Рабочие кварталы кожевенных фабрик.
— Плохи дела, верно? Совсем плохи, а? На вашем месте я оставался бы дома и дождался распродаж. Только вещи перепачкаете и ничего не заработаете.
— Ну, в резиновом плаще не страшно.
— А брюки! — восклицает Дитрих. — А ботинки? Но сначала давайте-ка выпьем коньяку. Или вы предпочитаете грог? Мы это быстро. У моей хозяйки есть газ.
— Нет, — произносит Куфальт и делает вид, будто его корежит. — Только не грог. Мне все время кажется, будто я чую запах вашего грога еще с той ночи.
И Куфальт кажется самому себе ловким дипломатом.
— Тогда ваше здоровье, — произносит Дитрих. — Дай бог нашим деткам вырасти такими же. Еще по одной? Правильно! Вы же замерзли.
— А вы тогда хорошо добрались до дома? — не отставал Куфальт.
— Когда тогда?
— Ну, в ту новогоднюю ночь, господин Дитрих. Кафе «Центр».
— А, вы слышали об этом? — смеется Дитрих. — Да, в тот вечер я хорошо набрался.
— Я тоже там был, господин Дитрих, — с нажимом произносит Куфальт. — Мы ведь даже разговаривали друг с другом.
— Вы тоже там были! — удивляется Дитрих, — Смотрите-ка! Да, в тот вечер я наклюкался.
Куфальт лихорадочно думает: «Он издевается или в самом деле ничего не помнит? По крайней мере, проснувшись, он должен был обнаружить табличку. Или Минна ее сняла?»
И, будто угадав его мысли, Дитрих сказал:
— Да, если и вы были там, дорогой Куфальт, то поступили не лучшим образом, оставив меня в таком беспомощном состоянии.
— Как в беспомощном состоянии?..
— В положении риз. Если бы меня не подобрал мой друг, мясник Куцбах, я бы наверняка очутился в постели у Минны!