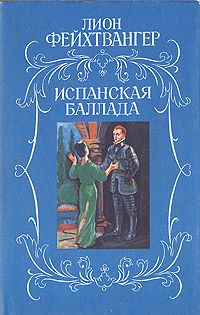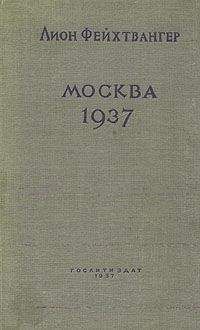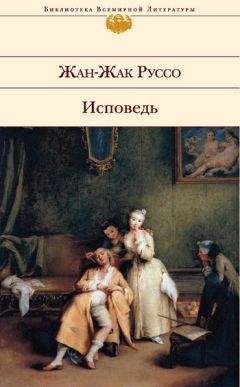Лион Фейхтвангер - Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо
Изрядно помятый, обессиленный и потрясенный, сидел на земле среди обращенных в руины колонн папаша Морис и с горечью размышлял о том, какое глупое, зловредное толкование претерпевает иной раз учение Жан-Жака со стороны Всеобщей воли.
Тем временем санлисские молодцы собрались идти в замок, решив лично проведать «бывшего».
В вестибюле к ним навстречу вышел мосье Гербер.
Он все время издали наблюдал за тем, что делалось в парке. А теперь варвары ворвались и сюда; как готы и гунны, они превращали храмы в конюшни для своих лошадей. С мучительной ясностью видел он схожесть происходящих событий. Как те, в Париже, разрушали своими бесчинствами учение Жан-Жака о государстве, обращая это учение в пародию на него, так и здесь варвары опустошали сады, последнюю утеху Жан-Жака, его «природу». Они не пощадили даже это скромное воплощение его мечты. От горя сердце мосье Гербера готово было разорваться. Стараясь обрести равновесие, он произносил про себя строчку из Эсхила: «Суровые пути избирает милосердие, управляющее миром».
Однако теперь, когда варвары вторглись в самый замок, он не мог более молчать. Бледный, высоко держа голову, он вышел к ним навстречу.
– Умерьте ваши страсти, господа, – сказал он. – Вспомните основной закон Республики: «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого». Именем Жан-Жака, священного и для вас и для меня, я говорю: на пороге этого дома кончается ваша свобода, граждане!
Он стоял перед ними худой, хрупкий, на вид гораздо старше своих лет; но глаза его не мигали, он устремил на гуннов горящий решительный взор, его голос звучал глубоко и заклинающе. Он как-то смешно походил на Жан-Жака, и санлисцам, быть может, смутно вспомнились портреты Жан-Жака, которые они, вероятно, где-то видели. На мгновение они заколебались.
Но потом кто-то из них сказал:
– Без проповедей, шут гороховый!
А другой прибавил:
– Это бывший поп, купленный слуга суеверий: сразу видно по его причитаниям.
Но они были добродушно настроены, они ничего ему не сделали, только нахлобучили на голову красный колпак, знаменующий свободу, налили ему сидра и заставили выпить за погибель аристократов, статуи которых они только что обратили в груды камней.
Капрал Грапен после неприятного объяснения с гражданином Юрэ не счел возможным мешать державному народу, когда тот наводил свой порядок в парке. Но за целость и невредимость доверенного ему неблагонадежного гражданина он отвечал. Он поставил гвардейцев у дверей во внутренние комнаты и обратился к санлисским удальцам, убеждая их отправиться восвояси. Усталые от патриотических подвигов и от попойки, они дали себя уговорить.
7. Голос из клоаки
Якобинцы были бдительны. Им даже в тюрьмах мерещились заговоры. Заключенным строго-настрого было запрещено всякое общение с внешним миром.
Отныне узники не знали, что происходит в стране и за ее пределами; только старший смотритель каждый вечер читал им «Монитер». Даже изобретательный мосье Робинэ не находил более способов подавать весточки Фернану. Фернан ничего не знал о разорении Эрменонвиля.
В Ла-Бурб был введен новый, чрезвычайно строгий устав. Заключенным запрещалось получать с воли какие-либо съестные припасы. Музыка тоже была запрещена. Собак удалили. Спальные помещения не освещались. Малейшее нарушение нового устава каралось карцером. Веселый грим, маскировавший Ла-Бурб, был стерт.
С посуровевшим режимом прибавилось грязи, Ла-Бурб обернулась мрачной тюрьмой. Фернан мучительно страдал от грязи «болота». Прозвище тюрьмы вполне оправдывало теперь себя. И не только внешне: болотом были и узники в своей массе. Сознание общности с ними не несло с собой более ни утешения, ни ободрения, вечное пребывание на людях царапало и раздражало, погружало в липкую грязь.
Точно для того, чтобы поглумиться над заключенными, их заставляли каждый вечер собираться в зале. Право собраний, заявлял старший смотритель, – основное право Республики. Там, стало быть, они сидели, болтали, играли в карты или в шашки, а со стен пялились на них гордые изречения, прославляющие человечность и права человека. Фернану казалось, что в этом зале, как нигде более, видна была вся бессмысленность жизни в Ла-Бурб. Бессмысленными были бесконечные неистовые споры запертых под одной крышей узников. Бессмысленной была их участь. Бессмысленной была догматическая подозрительность тех, кто держал их взаперти.
Вся страна вертелась в бессмысленном водовороте. Для того чтобы самому не одуреть, Фернан искал смысл в бессмыслице. Величие без безумия немыслимо. Стихотворные строки одного английского поэта не выходили у него из головы:
Great wits are sure to madness near allied
And thin partitions do their bounds divide.
Гений и безумие – родные братья,
Их разделяют лишь тонкие стены.
Жан-Жак, преследуемый всем миром за мудрость и смелость, бежал порой в безумие. Thelo, thelo manenai. А теперь весь мир преследует французский народ за то, что он с неслыханным мужеством совершает попытку построить государство на основе разума; так почему же отказать ему в праве на судороги безумия? В истории Франции так же, как в жизни Жан-Жака, гениальные по своей логичности поступки чередовались с актами безумия. Но здоровый инстинкт вновь и вновь возвращает народ на путь разума.
Несмотря на причиненные ему страдания, Фернан всячески старался оставаться справедливым и старался, чтобы собственная участь не заслонила от него всего, что совершается.
Разумеется, в том, что он сидит здесь, во мраке, виноват чистейший произвол какого-то зловредного глупца. Но Республике в ее борьбе за существование разрешалось все, что могло служить для устрашения и уничтожения врагов. Она вынуждена пользоваться услугами всех безответственных мелких чиновников, она не может разрешить себе останавливаться на частностях. Робеспьер, Сен-Жюст, Мартин Катру правы: в таких случаях жестокость становится добродетелью, и тот, кто из мягкосердечия осуждает суровые меры, предпринимаемые Республикой, тем самым уже становится в ряды ее врагов.
Нужно здесь, на дне пропасти, показать, чего ты стоишь. Если несправедливость, совершенная по отношению к тебе, собьет тебя с толку, если ты теперь не сможешь сказать, что безоговорочно привержен Республике, даже этой Республике ужаса, то ты утратишь право прийти к народу как брат.
В Латуре тем временем росла тревога. Робинэ не мог скрыть от Жильберты, что связь с Фернаном окончательно утеряна. Жильберте невмоготу было больше сидеть сложа руки. Она решила поехать в Париж и так или иначе попытаться вызволить Фернана.
Мосье Робинэ умолял ее не делать безрассудных шагов. Новые указы запрещают всем «бывшим» пребывание в Париже. Если Жильберта двинется из Латура, она напрасно подвергнет себя большой опасности: помочь Фернану все равно нельзя. Но никакие соображения и заклинания не могли ее удержать. Она поехала в Париж.
Прежде всего она должна поговорить с Мартином Катру. Немыслимо, чтобы Катру равнодушно прошел мимо участи, грозившей его ближайшему другу. Он, несомненно, попросту не знает об аресте Фернана. Такие аресты были теперь настолько заурядным явлением, что о них и не говорили. Надо поставить Мартина в известность.
Ее предположение, что Мартин не знал об аресте Фернана, подтвердилось. В Конвенте ей сказали, что Катру по особому заданию выехал в Вандею. Но как бы там ни было, она должна что-то предпринять: Революционный Трибунал работал с умопомрачительной поспешностью.
Она пошла к жене Мартина, гражданке Жанне Катру. Стояла в тесной комнате, до отказа набитой мебелью. Жанна мерила ее недоверчивыми взглядами. Жильберта заранее тщательно обдумала все, что собиралась сказать. Жанне, конечно, известно, начала она, что Мартин дружен с Фернаном, а представить себе, чтобы гражданин Катру поддерживал дружбу с врагом отечества, разумеется, невозможно. Таким образом, арест Фернана – какая-то непостижимая ошибка, и Жильберта просит гражданку Катру дать знать об этом мужу.
Жанна никогда не любила Фернана, она с самого начала не доверяла ему. А теперь выходит, что и другие ему не доверяли. Ну и правильно, что он арестован. В глубине души Жанна была довольна, что Мартина нет в Париже; единственное, в чем она не одобряла его, была дружба с этим графчиком.
– Депутат Катру, – сказала она, – поехал в Вандею по заданию Конвента. В Вандее ему предстоит примерно наказать мятежников, чтобы отбить у них охоту к новой измене. Такого рода дело с головой поглощает человека. Неужели ты думаешь, гражданка, что я стану отнимать у Катру драгоценное время для столь мелких, личных делишек? Вообще не понимаю тебя, гражданка. Ты что, не веришь в справедливость Республики? Или же ты требуешь чего-нибудь иного, не только справедливости? Сочувствия, например? Сочувствие – не республиканская добродетель.