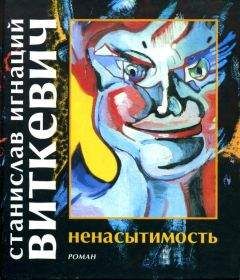Станислав Виткевич - Наркотики. Единственный выход
Р о м е к: Опять этот гадкий псевдофилософский жаргон, которым тебя систематически заражает Изидор. Мало разве написал Хвистек против этого? А с помощью разговорного языка, считает он, «в общих — как он это называет — чертах» можно высказать все, что не лишено смысла.
М а р ц е л и й: Это тот программный идиотизм, который рассчитан на завоевание популярности среди неучей: разговорный язык содержит массу неточностей, поэтому философы создали свой, как ты его называешь, жаргон с более высокой степенью однозначности. Вот Изидор и стремится заменить определенные многозначные понятия в их разных значениях абсолютно однозначными символами, которые никто не любит, тут же чуя ненавистную математику и логистику, но тем не менее все говорят ПЗП, ГПУ, МИД и прекрасно понимают друг друга. «Говорить о философии просто» — это демагогическая апелляция ко всеобщей темноте со стороны людей, ничего существенного сказать не способных, но требующих к себе всеобщего внимания. Разумеется, столь же пагубно и противоположное направление — маскировка пустоты искусственно дутыми фразами с помощью необязательных понятий и создание неологизмов вследствие радикально плохо, то есть неразрешимо сформулированных проблем, как, например, у Гуссерля. Но огульное осуждение немецкой философии только потому, что пара немцев своей бездушной фразеологией дискредитировали метафизику — я имею в виду Гегеля и ему подобных гипостатов понятий — это sheer cretinism![229]
М а р к и з: Браво, Целек! Уайтхед бы...
М а р ц е л и й: Только не говори мне о Уайтхеде. Им угощал меня Изя, которого ты не знаешь, — пойдем к нему сейчас же, как только закончу. (У него в голове снова пронеслись слова Надразила: «Роман? Это когда кто-то куда-то пошел и кого-то полапал — что ж, пойду к нему, но не лапать — Русталка больше не моя». Страшная печаль схватила его за горло, стеснила грудь, и даже прелестная Суффретка показалась ему в эту минуту пошлой шлюшкой, с которой и парой фраз не перекинешься). Этот безумец, продолжал он, хотел свалить в одну кучу физикалистский взгляд с психологистическим, выразить эту амальгаму общей терминологией и создать таким образом искусственный псевдонаучный монизм, в котором понятие личности будет заменено словечком — жаль, что не в кавычках, ибо сегодня это тоже способ выпутаться из убийственных проблем — «percipient event» — ah, non! das ist empörend!![230]
М а р к и з: А знаешь, ты парень что надо! Никогда не думал, что ты такой.
М а р ц е л и й: То-то, англосаксонская крыса, а ведь Зигфрид Галушка укорял меня, что я говорю на волапюке, чтоб его, эдак по-дружески, pies jebał.
Р о м е к: Я хочу говорить о музыке, о музыке, о музыке!! (Он нервно топал ногами, жуя резинку и выделывая пируэты и прочие гимнастические фигуры со складным бильярдным кием.)
Н а д р а з и л (до сих пор угрюмо молчавший, подавленный высоким понятийным уровнем дискуссии и будучи никак не в состоянии принять в ней участие — он умел быть только гениальным критиком третьеразрядных литераторов, которых буквально разил наповал блестящими сравнениями, выражая в них самую пошлую ходячую брехню о так называемом искусстве, то есть о каких-то на птичьем языке написанных романчиках и пьесках ниже уровня покойника à la маэстро Бруднавер): Так говори, псякрев, а не бухти — холера — ужрался, как Джон Рейв — (пауза) — что ж никто не спросит меня, кто такой Рейв — снобы проклятые, вид только делаете, что знаете, а если разобраться — ничего вы не знаете, а признаться боитесь.
М а р ц е л и й: Что до меня — то я рисовал очень сложный фрагмент.
Н а д р а з и л: А перед тем, пустобрех, ты вел дискуссию таким языком, что у меня евстаховы трубы опухли.
М а р ц е л и й (холодно): Хиевы.
М а р к и з: Я прослушал — о ком шла речь?
М е н о т т и - К о р в и: У меня нераздельность внимания — я думал о вопросе разговорного языка. (Аккредитованный при ПЗП агент итальянского профсоюза Элитариев-Дилетантов, Корви прекрасно говорил по-польски.)
С м е р д и - У ш к о: А я все думаю о проблеме аристократии.
Р о м е к: А я думал, ты занят проектами, имеющими целью довести до сведения каждого, что у тебя смердит ушко — у тебя и у твоих предков. Лучше всего так засмерди себе ушко абсолютным неумыванием, чтобы за десять шагов можно было его учуять, как уши старой суки Файфы лорда Альфреда.
М а р к и з (резко): Попрошу не оскорблять мою суку, стурба ваша влянь елбястая!
Р о м е к (поет):
Забарсучилися суки,
Забарсучились все три.
А от слез моей Судзуки
Лишь туман плывет вдали!’
М а р ц е л и й: Либо дискуссия продолжается, либо — всех отсюда поганой метлой. У меня нет времени на легковесные французские остроты à la Бой и Слонимский! Кстати: интересная проблема в истории польской литературы: знал ли Слонимский по-французски — сдается мне, что не очень...
Р о м е к: Хорошо, хорошо: именно эфемерность, нематериальность, несуществование в истинном смысле, о чем говорят реисты, утверждая, например, что ультрагениальная Пятьдесят восьмая симфония Шимановского, посвященная памяти Вальтера Патера, названная «Гоп до мене, хлопци, враз», с чудным двухголосным хоралом в финале: 182 эфеба и 18 папских кастратов с настоящими, а не из папье-маше, алебардами и пулеметами, чьи звуки так гипергениально интуитивно вплетены в звучание оркестра, что эти чудеса...
М а р ц е л и й (грозно замахиваясь на него — исключительно неприличное слово! — палитрой, полной красок): Или ты заткнешься или я дам тебе в мордофон!
Р о м е к: Старая шутка. Короче, реисты утверждают, что симфония не существует, а есть лишь в момент ее исполнения куча частичек определенным образом вибрирующего воздуха, которая «как-то» слышится — ах, это слово «как-то»! Что такое «как-то»?? Кааак-тооо!! Ничего не понимаю. Без живописи могу жить — предпочитаю посмотреть на природу, а после — послушать музыку.
М а р ц е л и й: Потому что ты не понимаешь живописи как искусства — каждое искусство имеет формально-существенные принципы, общие для всех его видов, затем — формально-специфические, а далее и специфически несущественные, касающиеся жизненного материала. Ты неотзывчив на формально-пространственную красоту.
Р о м е к: Почему же я так чувствую природу, что просто вою, завидев, например, чудесный клен там за окном? — Я хотел бы изнасиловать его и сожрать желтизну этих листьев — вот она, настоящая желтизна, а твоя мазня для меня — червивая пакость, застарелая мерзость, сыпью выползшая на твой прогнивший прококаиненный мозг.
М а р ц е л и й (просто с ангельским терпением): Ты — груб, помни, что ради этой пакости я пожертвовал жизнью, умом, любовью и уважением к себе как человеку; я — тряпка, но после меня останется это! (Показывает картину, на которую все уставились, как баран на новые ворота.) А что касается природы — ты в ней чувствуешь не только формальную красоту, как, впрочем, и я сам во многих случаях, а синтез всех ощущений — тепла и холода, сухости и влажности, времени дня и ночи, года и тому подобных вещей, к которым присовокупляются разные житейские чувства, связанные с этими элементами, и все вместе заключено в рамки чисто пространственной композиции данной картины. (Слово «пейзаж», как мерзкое, должно исчезнуть из польского языка.) Все это возникает при разглядывании запечатленной на полотне природы в виде ассоциаций воспоминаний и фантазии, а толпа, не приученная воспринимать истинно живописные произведения как произведения искусства, по ошибке считает это художественными впечатлениями и мелет о них всякую чушь. Абсолютно то же самое с музыкой и выражаемыми через нее чувствами.
Р о м е к: Все вроде так: и аналогия, и симметрия, и остальное, однако в действительности все не так, и ничего тут не поделаешь — каждый здоровый, незаумный, свободный от сохвистерии ум должен со мной согласиться.
М а р ц е л и й: Апелляция к коммонсенсу — common sense, you know[231] (повторил он, обращаясь к маркизу), — пошло называемому «здравым смыслом», доказывает, что что-то не в порядке: как только данная система понятий заваливается, ее тут же начинают поддерживать подпорками из житейской мудрости. Уже тысячу раз решенные вопросы снова возвращаются к толпе неучей в виде неразрешенных только потому, что их можно задать в истинной форме, но прежде всего решить в рамках системы понятий, превосходящих своей сложностью и тонкостью средний уровень человеческого интеллекта. В мире существуют неодолимые для умственной посредственности проблемы — ничего не поделаешь, — и это может быть понятийным охватом таких сфер, которые в непосредственном восприятии не представляют ничего сложного, но они понятийно нашпигованы хитросплетениями, например, в нашем случае — в силу двойственности искусства, единства содержания и формы. Причем содержание опять-таки можно понимать как жизненное содержание, в котором преломляется метафизическое ощущение, или — я никогда не устану это повторять — как концентрированное ощущение единства личности, противопоставленной тому, что ею не является. Это одинаковое ощущение индивидуализируется у всех, поляризуется и создает такую, а не иную форму своего выражения: отсюда «таковость, а не инаковость», как говорит Изя, каждого произведения искусства. Выражение сущности бытия, единства во множестве, является сущностью искусства, поэтому...