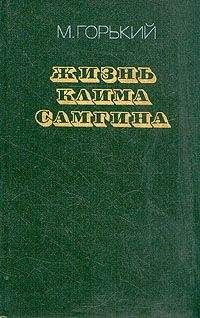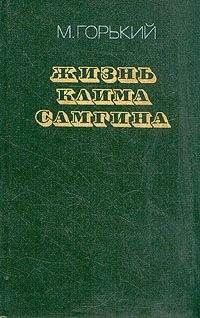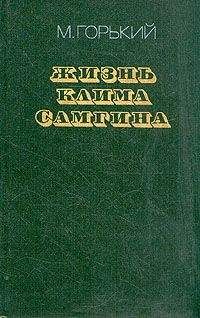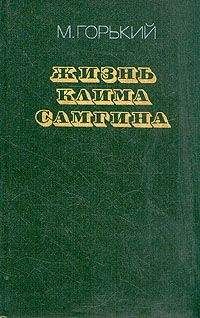Максим Горький - Жизнь Клима Самгина. "Прощальный" роман писателя в одном томе
За окном шелестел дождь, гладя стекла. Вспыхнул газовый фонарь, бескровный огонь его осветил мелкий, серый бисер дождевых капель, Лидия замолчала, скрестив руки на груди, рассеянно глядя в окно. Клим спросил: что такое дядя Хрисанф?
— Прежде всего — очень добрый человек. Эдак, знаешь, неисчерпаемо добрый. Неизлечимо, сказала бы я.
И, улыбаясь темными глазами, она заговорила настолько оживленно, тепло, что Клим посмотрел на нее с удивлением: как будто это не она, несколько минут тому назад, сухо отчитывалась.
— Я верю, что он искренно любит Москву, народ и людей, о которых говорит. Впрочем, людей, которых он не любит, — нет на земле. Такого человека я еще не встречала. Он — несносен, он обладает исключительным уменьем говорить пошлости с восторгом, но все-таки… Можно завидовать человеку, который так… празднует жизнь.
Она рассказала, что в юности дядя Хрисанф был политически скомпрометирован, это поссорило его с отцом, богатым помещиком, затем он был корректором, суфлером, а после смерти отца затеял антрепризу в провинции. Разорился и даже сидел в тюрьме за долги. Потом режиссировал в частных театрах, женился на богатой вдове, она умерла, оставив все имущество Варваре, ее дочери. Теперь дядя Хрисанф живет с падчерицей, преподавая в частной театральной школе декламацию.
— А эта — Варвара?
— Варвара — талантлива, — не сразу ответила Лидия, и глаза ее вопросительно остановились на лице Клима.
— Ты что как смотришь? — смущенно спросил он.
— Я думаю: ты — талантлив?
— Не знаю, — скромно ответил Клим.
— Какой-то талант у тебя должен быть, — сказала она, задумчиво разглядывая его.
Пользуясь молчанием, Клим спросил о главном, что интересовало его, — о Диомидове.
— Странный, не правда ли? — воскликнула Лидия, снова оживляясь. Оказалось, что Диомидов — сирота, подкидыш; до девяти лет он воспитывался старой девой, сестрой учителя истории, потом она умерла, учитель спился и тоже через два года помер, а Диомидова взял в ученики себе резчик по дереву, работавший иконостасы. Проработав у него пять лет, Диомидов перешел к его брату, бутафору, холостяку и пьянице, с ним и живет.
— Хрисанф толкает его на сцену, но я не могу представить себе человека, менее театрального, чем Семен. О, какой это чистый юноша!..
— И влюблен в тебя, — заметил Клим, улыбаясь.
— И влюблен в меня, — автоматически повторила Лидия.
— А — ты?
Она не ответила, но Клим видел, что смуглое лицо ее озабоченно потемнело. Подобрав ноги в кресло, она обняла себя за плечи, сжалась в маленький комок.
— Странных людей вижу я, — сказала она, вздохнув. — Очень странных. И вообще как это трудно понимать людей!
Клим согласно кивнул головой. Когда он не мог сразу составить себе мнения о человеке, он чувствовал этого человека опасным для себя. Таких, опасных, людей становилось все больше, и среди них Лидия стояла ближе всех к нему. Эту близость он сейчас ощутил особенно ясно, и вдруг ему захотелось сказать ей о себе все, не утаив ни одной мысли, сказать еще раз, что он ее любит, но не понимает и чего-то боится в ней. Встревоженный этим желанием, он встал и простился с нею.
— Приходи скорей, — сказала она. — Завтра же приходи, завтра — праздник.
На улице все еще сыпались мелкие крупинки дождя, по-осеннему упрямого. Скучно булькала вода в ручьях; дома, тесно прижавшиеся друг к другу, как будто боялись, размокнув, растаять, даже огонь фонарей казался жидким. Клим нанял черного, сердитого извозчика, мокрая лошадь, покачивая головою, застучала подковами по булыжнику. Клим съежился, теснимый холодной сыростью, досадными думами о людях, которые умеют восторженно говорить необыкновенные глупости, и о себе, человеке, который все еще не может создать свою систему фраз.
«Человек — это система фраз, не Солее того. Конурки бога, — я глупо сказал. Глупо. — Но еще глупее московский бог в рубахе. И — почему сны в Орле приятнее снов в Петербурге? Ясно, что все эти пошлости необходимы людям лишь для того, чтоб каждый мог отличить себя от других. В сущности — это 'мошенничество».
Несколько вечеров у дяди Хрисанфа вполне убедили Самгина в том, что Лидия — живет среди людей воистину странных. Каждый раз он видел там Диомидова, и писаный красавец этот возбуждал в нем сложное чувство любопытства, недоумения, нерешительной ревности. Студент Маракуев относился к Диомидову враждебно, Варвара — снисходительно и покровительственно, а отношение Лидии было неровно и капризно. Иногда в течение целого вечера она не замечала его, разговаривая с Макаровым или высмеивая народолюбие Маракуева, а в другой раз весь вечер вполголоса говорила только с ним или слушала его негромко журчавшую речь. Диомидов всегда говорил улыбаясь и так медленно, как будто слова доставались ему с трудом.
— Есть люди домашние и дикие, я — дикий! — говорил он виновато. — Домашних людей я понимаю, но мне с ними трудно. Все кажется, что кто-нибудь подойдет ко мне и скажет: иди со мной! Я и пойду, неизвестно куда.
— Это я тебя, и поведу! — кричал дядя Хрисанф. — Ты у меня будешь первоклассным артистом. Ты покажешь такого Ромео, такого Гамлета…
Диомидов, приглаживая волосы, недоверчиво ухмылялся, и недоверие его было так ясно, что — Клим подумал:
«Лидия — права: этот человек — не может быть актером, он слишком глуп, для того чтоб фальшивить».
Но однажды дядя Хрисанф заставил Диомидова и падчерицу свою прочитать несколько сцен из «Ромео и Юлии». Клим, равнодушный к театру, был поражен величавой силой, с которой светловолосый юноша произносил слова любви и страсти. У него оказался мягкий тенор, хотя и не богатый оттеками, созвучный. Самгин, слушая красивые слова Ромео, спрашивал: почему этот человек притворяется скромненьким, называет себя диким? Почему Лидия скрывала, что он талантлив? Вот она смотрит на него, расширив глава, сквозь смуглую кожу ее щек проступил яркий румянец, и пальцы руки ее, лежащей на колене, дрожат.
Дядя Хрисанф, сидя верхом на стуле, подняв руку, верхнюю губу и' брони, напрягая толстые икры коротеньких ног, подскакивал, подкидывал тучный свой корпус, голое- лицо его сияло восхищением, он сладостно мигал.
— Отлично! — закричал он, трижды хлопнув ладонями. — Превосходно, но — не так! Это говорил не итальянец, а — мордвин. Это — размышление, а не страсть, покаяние, а не любовь! Любовь требует жертв. Где у тебя жест? У тебя лицо не живет! У тебя вся душа только в глазах, этого мало! Не вся публика смотрит на сцену в бинокль…
Лидия отошла к окну и, рисуя пальцем на запотевшем стекле, сказала глуховато:
— Мне тоже кажется, что это слишком… мягко.
— Нисколько не зажигает, — подтвердила Варвара, окинув Диомидова сердитым взглядом зеленоватых глаз. И только тут Клим вспомнил, что она подавала Диомидову реплики Джульетты бесцветным голосом и что, когда она говорит, у нее некрасиво вытягивается шея.
Диомидов опустил голову, сунул за ремень большие пальцы рук и, похожий на букву «ф», сказал виновато:
— Не верю я в театр.
— Потому что ни чорта не знаешь, — неистово закричал дядя Хрисанф. — Ты почитай книгу «Политическая роль французского театра», этого… как его? Боборыкина!
Наскакивая на Диомидова, он затолкал его в угол, к печке, и там убеждал:
— Тебя евангелием по башке стукнуть надо, притчей о талантах-!
— В притчу эту я тоже не верю, — услышал Клим тихие слова.
«Конечно, он глуп», — решил Клим, а Лидия засмеялась, и он принял смех ее как подтверждение своей оценки.
Позднее, сидя у нее в комнате, он сказал:
— Помнишь, отец твой говорил, что все люди привязаны каждый на свою веревочку и веревочка сильнее их?
— Он сам — на веревочке, — равнодушно отозвалась Лидия, не взглянув на него.
— Если ты о Семене, так это — неверно, — продолжала она. — Он — свободен. В нем есть что-то… крылатое.
Говорила она неохотно, как жена, которой скучно беседовать с мужем. В этот вечер она казалась старше лет на пять. Окутанная шалью, туго обтянувшей ее плечи, зябко скорчившись в кресле, она, чувствовал Клим, была где-то далеко от него. Но это не мешало ему думать, что вот девушка некрасива, чужда, а все-таки хочется подойти к ней, положить голову на колени ей и еще раз испытать то необыкновенное, что он уже испытал однажды. В его памяти звучали слова Ромео и крик дяди Хрисанфа:
«Любовь требует жеста!»
Но он не нашел в себе решимости на жест, подавленно простился с нею и ушел, пытаясь в десятый раз догадаться: почему его тянет именно к этой? Почему?