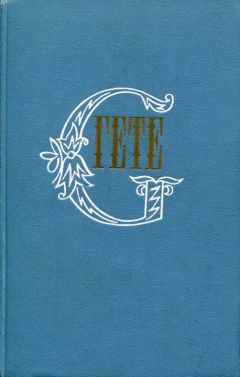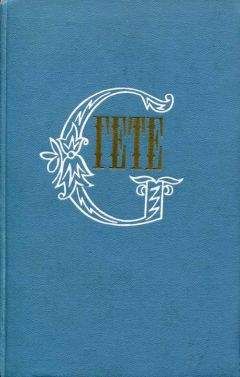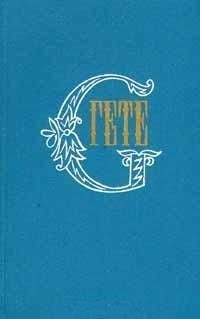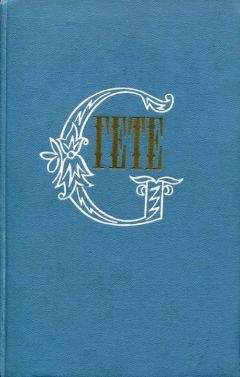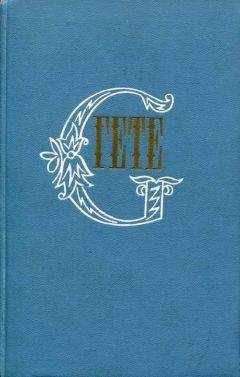Иоганн Гете - Собрание сочинений в десяти томах. Том седьмой. Годы учения Вильгельма Мейстера
Старание отдалить от меня детей огорчает меня тем сильнее, чем вернее я убеждаюсь в реальности моей веры. Как же может она не быть божественной природы, не иметь опоры в подлинно сущем, раз на практике она оказывается столь действенной? Если мы лишь на практике полностью осознаем собственное бытие, почему не можем мы тем же путем удостовериться в реальности того существа, которое ведет нас к добру?
Раз я непрерывно иду вперед, а не назад, раз в поступках своих я непрерывно приближаюсь к тому, что в моем представлении является идеалом, раз при всей моей телесной немощи мне все легче делать то, что я считаю справедливым, — неужто же все это исходит от человеческой природы, тленность коей я постигла слишком глубоко? По моему разумению — решительно нет.
Заповеди я помню нетвердо, ничего не возвожу в закон; внутреннее тяготение руководит мною и наставляет меня на правый путь; я свободно следую своим понятиям и не знаю ни стеснения, ни раскаяния. По милости господней мне ведомо, кому я обязана этим счастьем, и не иначе как со смирением я помышляю о дарованной мне благодати. Никогда не дерзну я возгордиться своим знанием и умением, однажды уразумев, какие чудовища могут быть взращены и вскормлены в человеческой душе, если не оградят нас вышние силы.
КНИГА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Весна пришла во всей своей красе; ранняя гроза, надвигавшаяся с утра, разразилась в горах, дождь пролился над равниной, солнце засияло в полном блеске и на сером фоне туч раскинулась великолепная радуга. Вильгельм ехал верхом ей навстречу, с грустью глядя на нее. «Увы! — говорил он про себя, — не на таком ли точно фоне предстают перед нами самые приманчивые краски жизни? И зачем струятся капли, когда мы исполнены восторга? Ясный день подобен хмурому, когда мы равнодушно созерцаем его, и что может взволновать нам душу, как не затаенная надежда, что заложенное в нас от природы влечение не останется беспредметным? Душу нам волнует и рассказ о каждом добром поступке, и созерцание каждого гармонического образа; нам кажется тогда, что мы уже не совсем на чужбине, нам мнится, что мы ближе к той отчизне, куда нетерпеливо стремится все лучшее, что сокрыто в тайниках нашего сердца».
Тем временем его нагнал пешеход, который присоединился к нему, размашисто шагая рядом с конем, и после нескольких безразличных слов обратился к всаднику:
— Если не ошибаюсь, мы с вами уже где-то встречались?
— Я тоже как будто признаю вас, — отвечал Вильгельм. — Помнится, мы вместе совершили веселую прогулку по реке.
— Совершенно верно! — подтвердил попутчик.
Вильгельм пристально вгляделся в него и, помолчав, добавил:
— Не пойму, что за перемена произошла с вами. Тогда я принял вас за лютеранского пастора, теперь вы скорее похожи на католического патера.
— Нынче, по крайней мере, вы не заблуждаетесь, — сказал тот, сняв шляпу и обнажив тонзуру. — А куда девалась ваша труппа? Долго вы состояли при ней?
— Дольше, чем следовало; когда я вспоминаю время, которое провел в ней, я с сожалением убеждаюсь, что гляжу в беспредельную пустоту. Память моя ничего не сохранила от той поры.
— В этом вы ошибаетесь; с чем бы мы ни столкнулись, все оставляет по себе след и незаметно способствует нашему развитию; однако опасно стараться дать себе в этом отчет. В итоге нас одолеет либо гордыня, либо уныние и малодушие, и одно не менее вредоносно, чем другое. Вернее всего заниматься своим ближайшим делом, а в данную минуту, — с улыбкой добавил он, — это значит поспешать к месту назначения.
Вильгельм спросил, далеко ли до имения Лотарио, попутчик ответил, что оно расположено за горой.
— Может быть, я вас там застану, — добавил он, — мне надо только закончить кое-какие дела по соседству. Итак, до скорого свидания! — С этими словами он свернул на более крутую тропу, очевидно, сокращавшую дорогу через гору.
«Да, конечно же, он прав, — про себя решил Вильгельм, продолжая путь, — надо думать о ближайшем деле, а для меня нет сейчас ничего ближе печального поручения, которое надлежит мне выполнить. Посмотрим-ка, полностью ли сохранилась у меня в памяти речь, которой я должен пристыдить жестокосердого друга».
И он принялся повторять про себя этот литературный опус, он не пропустил ни полслова, и чем вернее служила ему память, тем более росли в нем негодование и отвага. Страдание и смерть Аврелии живо встали перед его внутренним взором.
— Осени меня, душа моей подруги! — вскричал он. — И, если можешь, подай мне знак, что ты примирена и успокоена!
С этими речами и мыслями добрался он до вершины горы и по ту сторону на склоне ее увидел причудливое строение, в котором тотчас же признал жилище Лотарио. Старый несуразный замок с несколькими башнями и фронтонами был, очевидно, первоосновой всего сооружения; но еще несуразнее оказались новые пристройки, возведенные частью рядом с главным зданием, частью поодаль от него и соединенные с ним галереями и крытыми переходами. Всякая внешняя симметрия, всякий намек на архитектоническую сообразность были явно принесены в жертву внутреннему удобству. От рва и вала, как и от искусственно разбитых садов и больших аллей, не осталось ни малейшего следа. Огород и плодовый сад подступали к самым зданиям, а мелкие огородики были разведены даже между ними. Неподалеку раскинулась нарядная деревенька, сады и поля были на вид в превосходном состоянии.
Вильгельм ехал вперед, углубившись в свои беспокойные думы и не очень вникая в то, что видел. Он оставил лошадь на постоялом дворе и не без волнения поспешил в замок.
Старый слуга встретил его у входа и благодушно объяснил, что нынче ему вряд ли удастся повидать барина; барину надо написать много писем и он велел уже отказать кое-кому из тех, кто приходил по делу. Вильгельм настаивал; в конце концов старик уступил и пошел доложить о нем. Воротившись, он проводил Вильгельма в большую старинную залу и попросил его обождать, потому что барин еще задержался. Вильгельм беспокойно шагал взад и вперед, поглядывая на рыцарей и дам, чьи старинные портреты были развешаны по стенам; он повторял начало своей речи, и здесь, в окружении доспехов и брыжей, она казалась вполне уместной. Заслышав шорох, он поспешил принять подобающую позу, с достоинством встретить противника, сперва вручить ему письмо, а затем пустить в ход оружие упрека.
Несколько раз он обманывался и уже стал раздражаться, когда наконец из боковой двери показался статный мужчина в ботфортах и простом кафтане.
— Что хорошего привезли вы мне? — приветливо обратился он к Вильгельму. — Простите, что я заставил вас ждать.
Говоря, он складывал письмо, которое держал в руках. Вильгельм не без смущения вручил ему послание Аврелии и сказал:
— Я привез вам последние слова вашей подруги, которые должны вас тронуть.
Лотарио взял письмо и воротился с ним в комнату и, как было видно Вильгельму через раскрытую дверь, сначала надписал и запечатал еще несколько писем, а затем уж вскрыл и стал читать послание Аврелии. По-видимому, он перечел письмо несколько раз, и хотя Вильгельм чувствовал, что его патетическая речь не очень-то соответствует столь естественному приему, однако он собрался с духом, направился к порогу и приготовился было начать свою рацею, когда потайная дверь кабинета растворилась и вошел патер.
— Я получил поразительнейшее известие! — воскликнул ему навстречу Лотарио и добавил, оборотясь к Вильгельму: — Простите мне, но сейчас я не расположен продолжать нашу беседу. Вы переночуете у нас! А вы, аббат, позаботьтесь, чтобы гость наш ни в чем не терпел недостатка.
С этими словами он поклонился Вильгельму, а патер взял нашего друга за руку, и тот неохотно последовал за ним.
Молча шли они причудливыми галереями и пришли в очень приветливую комнату. Патер ввел в нее гостя и удалился без дальнейших извинений. Вслед за тем появился бойкий подросток и объяснил Вильгельму, что приставлен ему служить; подавая ужин, он рассказал, какой распорядок в доме: когда здесь завтракают, обедают, работают и развлекаются, и при этом не уставал восхвалять Лотарио.
Как ни приятен был мальчик, Вильгельм постарался поскорее отделаться от него. Ему хотелось побыть одному, слишком уж неловким и тягостным было его положение. Он попрекал себя за то, что так плохо осуществил свое намерение и лишь вполовину выполнил данный ему наказ. То он давал себе слово завтра же утром наверстать упущенное, то вынужден был признаться, что знакомство с Лотарио настроило его совсем на другой лад. Да и очень уж необычным представлялся ему этот дом, он никак не мог освоиться здесь. Собираясь разоблачиться, он отпер свой чемодан; вместе с ночными принадлежностями он извлек покрывало призрака, которое уложила Миньона. Оно только усугубило тоскливое состояние его духа. «Беги, юноша! Беги!» — воскликнул он. Что означают эти таинственные слова? Чего бежать, куда бежать? Лучше бы призрак крикнул мне: «Оглянись на самого себя!» Он принялся рассматривать английские гравюры, висевшие в рамках на стене. Почти по всем он скользнул равнодушным взглядом и вдруг увидел одну, изображавшую гибель корабля; отец со своими прекрасными дочерьми ждет смерти от подступающих волн. У одной из женщин было сходство с красавицей амазонкой; неизъяснимая жалость охватила нашего друга. Он ощутил непреодолимую потребность дать волю чувствам, слезы хлынули у него из глаз, он не мог успокоиться, пока сон не сморил его.