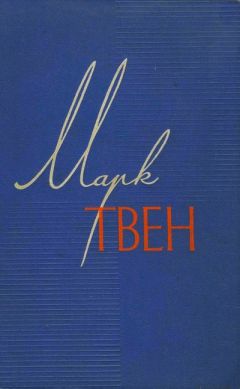Юз Алешковский - Собрание сочинений Т 3
Тут он понял, что не сбился с пути, и так этому обрадовался и такое почувствовал к себе уважение, какого, пожалуй, ни разу не испытывал после блестящего – с серебряной медалькой – освобождения из ненавистных школьных стен… «А потом… а потом – суп с котом…»
Он хотел глубоко вздохнуть, чтобы поддержать сердце, сжавшееся вдруг от очередной волны тоски и боли, но вздохнуть не смог и учуял, как выступают на лбу капли липкого пота, ужасающего еще и тем, что не горяч он, как в детстве, а подозрительно холоден и как бы проговаривается о неимоверной стуже, хозяйничающей в глубине сиротливого организма.
И в этот момент он заметил слева от себя облако грязноватого пара. Оно висело над каким-то провалом, разметывая по сторонам желтый свет фонарей и зеленоватую подсветку прожекторов.
Гелий проследовал бы, верней, протащился бы мимо этого облака клубившегося пара, поскольку у него уже не было сил внимать каждому наружному впечатлению, что-то с чем-то соотнося, если бы в нос ему – в совершенно заложенный и замерзший нос – не шибануло вдруг тем самым отвратительным запашком адской хлорки… в ушах сразу же послышался шумок плескливый, который подняла тогда вокруг него, словно килька в рыбацкой сети, грязно-зелененькая нечисть, кишевшая в воде проклятого бассейна… сердце его сотрясла бешеная ненависть, стократно усиленная ослепительной яркостью безжалостных воспоминаний.
Задохнувшись, он стоял на месте как вкопанный, но был бессилен разрешить эту спертую тяжесть души безраздумным движением какого-либо мстительного поступка. Даже заорать, срывая голос, и бешено выругаться – так, чтобы с губ слетали грязные ошметки пены сквернословия, – он был не в силах, не то что сойти с ума, размахивать руками, топтать что-то вокруг себя, вопить, рвать на себе волосы, исцарапывать физиономию и так далее.
Бессильное бешенство Гелия было таково, что он и задохнулся бы от него окончательно, если бы за миг до удушья в душе у него и в голове что-то не прояснилось с неожиданно дивной одновременностью, как это бывает с землей и небом после гнетущего предгрозья, разряженного вдруг согласной игрою иных распорядительных стихий.
Во внезапно наступившей тишине ума и в душевной ясности Гелий ощутил полное облегчение и подумал: «Наказание… наказание… слава Тебе, Господи, если, конечно, это Твоих Рук дело… Наказание – это возвращение… согласен… Но бесы-то зачем? К чему это безобразие?… а с наказанием я трижды согласен».
В тот же миг ему показалось, что клочья пара в облаке, стоявшем над жутким провалом, прервали свои безумные метания от света, уплотнились, побелели и начали обретать воздушные формы огромного строения, как бы вылепливавшего самое себя с помощью ночного метельного ветра.
У Гелия было такое чувство, как будто он раздвоился и одна его часть достает одной рукою из кармана пальто коробок со спичками, чиркает спичкой по коробку, и ничто в ней не колеблется и не дрожит, когда она вот-вот поднесет злодейски шипящий, искрящийся огонек спички к черной змейке, вьющейся из-под его каблука, к подвальному окошку воздушного строения… А другая его половина зажмуривает принадлежащий ей глаз в ожидании адского грохота и взрыва… пытается слабой рукой удержать вторую неразумную руку от рокового последнего движения, но не может… повисает рука от слабости и отчаяния… огнеобразная головка змейки подбирается, снуя из стороны в сторону, все ближе и ближе к месту своего стремления… но адского грохота почему-то не происходит… бесшумным вихрем, налетевшим вдруг со стороны, развеиваются вокруг невинные части прекрасного воздушного строения… как легкий белоснежный пух, вздымаются они над городской местностью, словно бы взрыв невидимого фугаса поднял их и неслышно разметал в ничем не стесненном пространстве мрачных небес… а на том месте, где возвышалось все разметанное бесшумным вихрем, зияет клокочущая бездна адского котлована… и нечисть в ней какая-то кишит бессчетная, издавая шепеляво хлопотливый звук, похожий на тот, который издавали чертенята, попавшие в сказочную сеть поповского работника Балды… «в детстве… в детстве… Пушкина надо было слушаться, Геша, а не папеньку… мчатся тучи… вьются тучи… невидимкою луна…»
…Вот – нет уже никакого видения перед его глазами. Только сквозь драные хлопья облачного пара продираются три буквы родного алфавита из вывески, неполно воспроизведенной нейтральным газом, бездушно горящим в стеклянных извилинах своего заключения: БЕС… Конец вывески СЕЙН МОСКВА то вспыхивал и разноцветно змеился сквозь ненавистные испарения, то снова гас… «Тут рядом совсем, на Волхонке… он жил… в свету фонаря… О Господи, как совершенны… едва ли я живым зайду в его дом… поэт простит…»
Гелий ужаснулся, что бесы, услышав его бессмысленный шепот, сейчас вот напоследок снова настигнут… но успел подумать, что ему вовсе не примерещилась буква Е вместо буквы А и что иногда, когда наглость некоторых лживых смыслов достигает совсем уже невыносимого предела, спасительный Язык никак не может себе позволить слишком долго покрывать их поганую сущность – вопреки собственным, от века самоположенным Законам, – но вину за нарушение Законов возлагает, как в данном случае, на глупый, фригидный газ неон и на дурацкую электротехнику…
Так подумав, он успокоился и почувствовал быстрое, ничем не остановимое распространение слабости в теле – от области ног к сердцу… от сердца и рук – к голове… от головы…
В последний миг перед тем, как потерять сознание, Гелию показалось, что навстречу ему кто-то идет. Он так и не успел понять: то ли это приближаются несколько человек, то ли движется всего-навсего один какой-то прохожий, громадного роста, головокружительно вдруг размножившийся на толпу более мелких людей…
37
Когда он очнулся, то и не сразу сообразил, что очнулся. Да и первое это соображение пришло в голову от неимоверной боли в руках и ногах, начавших слегка отходить в тепле какого-то помещения. Там было ни темно, ни светло. Одна из лампочек с явным любопытством вглядывалась в его глаз, шаля покалывала лучиками зрачок, словно хотела растормошить и вызвать ответный интерес в померкшем было приемничке света.
Недалеко от него стояли и разговаривали какие-то люди. Их голосов он еще не слышал, но смог догадаться, что озабочены они его положением и говорят, следовательно, о нем, неизвестно сколько времени пролежавшем тут без сознания.
Он в силах был пошевелиться и дать знать этим людям, что он вот тут очнулся, не беспокойтесь, пожалуйста. Но он не сделал этого, в силу странного, бессознательного чувства уверенности, как бы внушающего человеку, особенно в юности, что, скажем, мать или подруга – это как бы другие ты, а если с тобой все в порядке, то никто из них нисколько за тебя и не волнуется. Глупо волноваться за самого себя, если сам ты спокоен, исчезая где-то на целые сутки и не давая знать себе о себе ни звонком, ни запиской.
Помешало ему шевельнуть ногою, кашлянуть или застонать старинное, может быть, доисторическое, райское, так сказать, чутье постоянной связи с другими, словно с самим собой. Именно оно – странное, сверхочевидное, а потому и бессознательное чувство родственного твоего одноподобия всем другим, чувство общего поля, свойственное колоску, затерянному в ниве… птице в стае… как бы внушило Гелию, что если он очнулся, то люди просто не могут этого не знать.
И в него проникла тишайшая, легчайшая радость успокоения, которая незаметно для постороннего глаза дает почуять очнувшемуся, что одна из чаш на весах его жизни и смерти снова перевесила другую – он еще дышит, хотя, возможно, близок к печальному равновесию.
Тишайшее состояние спасительной взвешенности над безднами Предвечного настолько драгоценно замерзшему человеку и так бесконечно им в тот миг любимо, что, глубоко очарованный, он иногда скорей помрет, чем вспугнет его неосторожным движением и глупой суетою языка.
Голоса людей поначалу казались Гелию бессмысленными звуками. Их можно было отогнать от себя, не предпринимая особых усилий, и они улетали прочь, словно неназойливые ночные бабочки.
Тогда он услышал прямо над собою то ли чье-то пение, едва улавливаемое слухом и внезапно переходящее в речь, то ли речь, вновь переходящую в странное пение. Он не знал, к чему отнести все эти эффекты: к остаткам полубреда или вообще… к «генерал-лейтенанту Гробову». Так именовала смерть его родная тетя после гибели сына под Кабулом.
«Ну вот, доигрался до скромного резонанса в Высших Сферах, – тихо подумалось ему без ужаса и трепета, однако ж и не без некоторой иронии, – да и чего, собственно, отказывать Ангелам в статусе реального существования, если имеется такая очевидная привилегия у бесов?… Просто стоит, должно быть, человеку покончить с Ангелами, как на их место быстрехонько заступает всяческая чертовщина. А теперь – наоборот… Пусть, в порядке бреда, они себе поют и причитают своими ангельскими голосами… раз так жаль им жизни моей ничтожной… каждому – свое… извините, конечно, там наверху, но нельзя ли все же как-нибудь присобачить к Вере довесочек такой малюсенький – Знания, а к нему самому пришпилить хоть немножечко Надежды, как душераздирающе жалконькой, гуманитарной, так сказать, помощи всезнающих Небес? Впрочем, не нужно. Оставьте все как было. Раз, как говорится, доверяете, то все сами вынесем безо всякого вспомогательного знания. Неизвестно еще, что тяжелей: человеку, безответственно страдая, в вас верить или вам взять на себя ответственность доверить человеческому племени многочисленные возможности страдать… страдать же, не веруя – вообще адский, знаете ли, героизм… Вот если бы, ко всему прочему, знать финал истории заранее… нет… не надо… чего же с первых страничек заглядывать в конец Книги Бытия…»