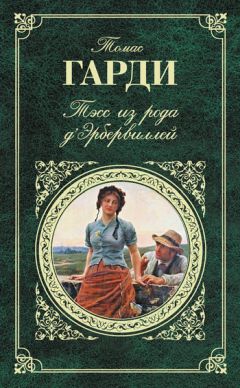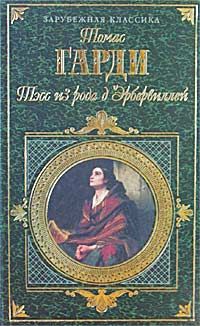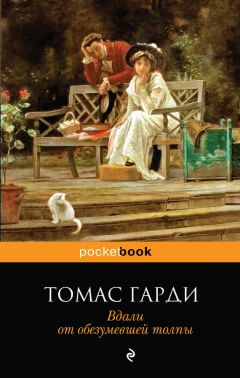Маргарет Рэдклифф-Холл - Колодец одиночества
Итак, это были те люди, к которым наконец обратилась Стивен в страхе перед одиночеством Мэри; она обратилась к себе подобным и была принята очень радушно, ведь ни одни узы не связывают так, как узы общего несчастья. Но она прозревала впереди тот день, когда и более счастливые люди примут ее, а через нее — и эту девушку, за счастье которой в ответе она и только она; день, когда с помощью неустанных подвигов она построит бухту, которая укроет Мэри.
И вот они вошли в ту реку, что проходит, безмолвная и глубокая, через все большие города, скользя между обрывистыми скалами, прочь, прочь, к ничейной земле — самой одинокой местности во всем мироздании. Но, когда они добрались домой, то не чувствовали опасений, даже сомнения Стивен на некоторое время притупились, потому что в первый раз эта странная река обрела свойства целебных вод Леты.
Стивен спросила Мэри:
— Хороший был прием, как думаешь?
И Мэри наивно ответила:
— Мне понравилось, потому что они были такие милые с тобой. Брокетт сказал мне, что считают тебя восходящей звездой среди писателей. Он сказал, что ты лев Валери Сеймур; я была сама не своя от гордости — это сделало меня такой счастливой!
Вместо ответа Стивен наклонилась и поцеловала ее.
Глава сорок пятая
К февралю книга Стивен была переписана и находилась в руках ее издателя в Англии. Это вселяло в нее мирное, но воодушевляющее чувство, приходящее к писателю, когда он отдал все лучшее, что у него было, и знает, что это не лишено достоинства. Со вздохом облегчения она, образно говоря, потянулась, протерла глаза и оглянулась вокруг. Она была в том настроении, которое приходит как реакция после усилий, и рада была развлечься; к тому же снова в воздухе была весна, год повернулся вокруг своей оси, и внезапно настали ясные дни, когда солнце приносило в Париж несколько часов тепла.
Теперь они не были лишены друзей, больше не зависели всецело от Брокетта и от мадемуазель Дюфо; телефон Стивен звонил довольно часто. Теперь Мэри всегда было куда пойти; всегда были люди, которые хотели повидаться с ней и со Стивен, люди, с которыми можно было сблизиться быстро, без множества ненужных трудностей. Из всех них, однако, настоящую привязанность Мэри испытывала лишь к Барбаре и Джейми; они с Барбарой сформировали безобидный союз, который по временам бывал даже трогательным. Одна говорила о Джейми, другая о Стивен, и они серьезно склоняли друг к другу свои юные головы: «Тебе не кажется, что Джейми перестает есть, когда работает?» «Тебе не кажется, что Стивен плохо спит? Может быть, она безразлична к своему здоровью? Джейми иногда ужасно беспокоится».
А иногда они бывали в более легкомысленном настроении, сидели и со смехом перешептывались; они нежно посмеивались над теми, кого любили, к чему склонны женщины с тех пор, как было взято ребро у Адама. Тогда Джейми и Стивен притворялись, что обижаются, заявляли, что им тоже придется держаться вместе, обороняясь против женских интриг. О да, все это было не лишено трогательности.
Джейми и ее Барбара были так бедны, что почти голодали, до того бедны, что простая еда была для них манной небесной. Стивен часто стыдилась своего богатства и, как и Мэри, всегда старалась их подкормить. Так как сейчас она была свободна, Стивен настаивала на том, чтобы регулярно приглашать их на ужин, и заказывала дорогие кушанья — медно-зеленые устрицы прямо из Марены, икру и другие дорогие вещи, а за ними следовали еще более пышные блюда — и, поскольку большинство дней в неделю они постились, их желудки нередко бунтовали и огорчали их. Двух бокалов вина Джейми хватало, чтобы раскраснеться, ведь она никогда не обладала крепкой головой, привычной к этому золотому нектару. Обычно она пила creme-de-menthe[95], потому что зимой он прогонял холод и напоминал ей своим сладким мятным вкусом драже из лавки в деревне Бидлс.
Им нелегко было помочь, этим двоим, ведь Джейми была гордой и исключительно ранимой. Она никогда не принимала подарков в виде денег или одежды и изо всех сил старалась выплатить долг своему учителю. Даже угощение была для нее оскорблением, если оно не разделялось с тем, кто угощал, и это, хотя было очень похвально, было и безрассудно. Но это было так — нужно было принять ее как есть или покинуть, с Джейми были невозможны компромиссы.
После ужина они возвращались в жилище Джейми, студию на старой улице Висконти. Они взбирались по бесчисленным грязным каменным ступенькам на верхний этаж дома, который был когда-то прекрасен, но теперь предоставлен таким же бедолагам, как Джейми. Неприятного вида консьержка, вечно кислая из-за пустых студенческих карманов, щурилась на них из темной каморки на нижнем этаже, скептически огладывая их. «Bon soir, Madame Lambert». «Bon soir, mesdames[96]», — нелюбезно ворчала она.
Студия Джейми была большой, голой и продуваемой сквозняком. Печь была слишком маленькой и иногда дурно пахла. Серые стены, выкрашенные клеевой краской, были все сплошь в пятнах, потому что когда шел град, дождь или снег, с окон и застекленной крыши всегда капало. Мебель состояла из нескольких шатких стульев, стола, дивана и большого пианино, взятого напрокат. Почти все усаживались на полу, стаскивая с дивана изъеденные молью подушки. Из студии вела крошечная комната с продолговатым окном, которое не открывалось. В этой комнате была узкая раскладушка, куда удалялась Джейми, когда ей не спалось. Еще там была раковина с протекающим краном; шкаф, в котором держали creme-de-menthe и то, что на данный момент оставалось из еды, тапочки и джинсовый синий жакет Джейми — без которых она не могла сочинить ни одной ноты — помойное ведро, одежду и щетки, с помощью которых Барбара героически пыталась убрать накопившуюся пыль и беспорядок. Ведь Джейми, чья голова со спутанными, как пакля, волосами вечно витала в облаках, была не только близорукой, но исключительно неряшливой. Пыль имела для нее мало значения, потому что она редко ее видела, а опрятность была полностью исключена из ее внешности; учитывая, как ограниченны были их с Барбарой владения, хаос, который они создавали, был удивителен. Барбара вздыхала и довольно часто ругалась — тогда она напоминала маленькую птичку-королька, которая пытается призвать к порядку крупную кукушку. «Джейми, дай мне свою грязную рубашку, с чего это ты бросила ее на пианино!» Или: «Джейми, иди сюда, погляди на свою расческу; ты ушла и положила ее прямо рядом с маслом!» Тогда Джейми приглядывалась напряженными красными глазами и ворчала: «Ну оставь ты меня в покое, девочка!»
А когда Барбара смеялась, что ей часто приходилось делать из-за экстраординарных привычек этого крупного неуклюжего существа, тогда она, как правило, закашливалась, и когда она начинала кашлять, то долго не мола остановиться. Они ходили к доктору, который говорил об ее легких и качал головой; слабые легкие, сказал он им. Но ни одна из них не поняла его как следует, ведь их французский оставался в зачаточном состоянии, а толкового английского доктора они не могли себе позволить. И все равно, когда Барбара кашляла, Джейми бросало в пот, и от страха она сердилась: «Ну-ка выпей воды! Не надо тут сидеть и на куски рассыпаться, это мне на нервы действует! Иди закажи еще бутылку этой микстуры. Господи, как же я могу работать, если ты все время кашляешь?» Но когда она переставала кашлять, Джейми чувствовала глубокие угрызения совести. Она, сутулясь, подходила к пианино и извлекала из него мощные аккорды, вдавливая педаль, чтобы заглушить этот кашель. «Ох, Барбара, маленькая моя… прости меня. Это все я виновата, что привезла тебя сюда, ты недостаточно сильна для этой проклятой жизни, ты и пищи нормальной не получаешь, и вообще ничего приличного». И под конец уже Барбара утешала ее: «Мы еще станем богатыми, когда ты закончишь свою оперу — в любом случае, мой кашель не опасен, Джейми».
Иногда музыка не давалась Джейми, опера наотрез отказывалась писаться дальше. Тогда в Консератории Джейми становилась глупой, а когда добиралась домой, все молчала, хмуро отодвигая тарелку с ужином, потому что, поднимаясь по лестнице, она слышала этот кашель. А Барбара чувствовала еще большую усталость и слабость, чем прежде, но прятала свою слабость от Джейми. После ужина они раздевались возле печки, если погода была холодной, раздевались, не говоря ни слова. Барбара довольно скоро и аккуратно выпутывалась из одежды, но Джейми всегда мешкала, роняя на пол то одно, то другое, или останавливаясь, чтобы набить свою маленькую черную трубку и зажечь ее, еще не надев пижамы.
Барбара опускалась на колени рядом с диваном и начинала молиться, просто, как дитя. Она читала «Отче наш» и другие молитвы, и всегда заканчивала словами: «Прошу тебя, Господи, благослови Джейми». Ведь, раз она верила в Джейми, она должна была верить и в Бога, и, раз она любила Джейми, она должна была любить и Бога — так было издавна, с тех пор, как они были детьми. Но иногда она дрожала в своей аккуратной хлопчатобумажной ночной рубашке, и встревоженная Джейми резко говорила ей: «Ну хватит тебе молиться! Все ты со своими молитвами. С ума ты сошла — стоять на коленях, когда в комнате такая холодина? Вот так ты и простываешь, и теперь будешь кашлять всю ночь!»