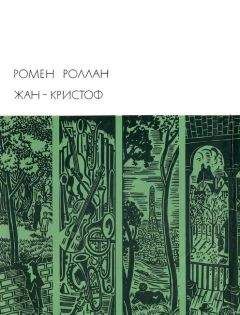Ромен Роллан - Жан-Кристоф. Книги 6-10
Как раз в это время кампания, поднятая против Кристофа в музыкальной печати, достигла апогея. Особенно яростно травила его одна из крупнейших парижских газет. Его избрал мишенью для нападок кто-то из сотрудников, скрывавшийся под псевдонимом: недели не проходило, чтобы в хронике не появилось ехидной заметки, выставляющей Кристофа на осмеяние. Музыкальный критик дополнял своего анонимного собрата и пользовался любым предлогом, чтобы мимоходом лягнуть Кристофа, но это была только артиллерийская подготовка — критик грозился вернуться к этой теме на досуге и в скором времени разделать Кристофа по всем правилам. Враги не торопились, они знали, что точно сформулированное обвинение гораздо меньше действует на публику, чем ряд упорно повторяющихся коварных намеков. Они играли с Кристофом, как кошка с мышью. Кристофу присылали эти статейки, он презрительно отмахивался, но все-таки страдал. И при этом страдал молча, вместо того чтобы отвечать (впрочем, даже при желании ему это вряд ли удалось бы); он из самолюбия упорствовал в бесцельной и неравной борьбе со своим издателем, зря терял время, силы, деньги и не пускал в ход главного своего оружия — музыки, добровольно отказываясь от рекламы, которую создавал ей Гехт.
И вдруг все переменилось. Обещанная статья не была опубликована. Зловредные намеки прекратились. Травля оборвалась. Мало того, недели через две или три музыкальный критик как бы мимоходом обронил в газете несколько хвалебных строк, видимо желая подчеркнуть, что мир заключен. Крупный лейпцигский издатель предложил Кристофу выпускать его произведения, и договор был составлен на выгодных условиях. В письме с печатью австрийского посольства в самых лестных выражениях высказывалось пожелание внести некоторые из вещей Кристофа в программу парадных вечеров, устраиваемых в посольстве. Филомелу, которой Кристоф покровительствовал, пригласили спеть на одном из этих приемов, после чего ее наперебой стали звать в аристократические гостиные немецкой и итальянской колоний в Париже. Самому Кристофу пришлось побывать на таком музыкальном вечере, и посол оказал ему весьма теплый прием. Однако из краткой беседы выяснилось, что радушный хозяин, вообще мало сведущий в музыке, не имеет понятия о его произведениях. Откуда же явился такой внезапный интерес? Казалось, рука незримого покровителя устраняла с пути Кристофа все препятствия.
Кристоф стал расспрашивать. Посол упомянул о каких-то двух друзьях Кристофа — графе и графине Берени, искрение расположенных к нему. Кристоф впервые слышал это имя, а в тот вечер, когда он был в посольстве, ему не случилось представиться супругам Берени. Он и не добивался знакомства с ними. Он переживал полосу отвращения к людям, полагался на друзей не больше, чем на врагов, — те и другие были одинаково ненадежны, изменяясь от малейшего дуновения; лучше было обходиться без них и повторять вслед за старым мудрецом XVII века:
«Бог дал мне друзей; бог отнял их у меня. Они покинули меня. Я сам покину их и даже поминать не буду».
После того как он уехал от Оливье, Оливье ни разу не подал признаков жизни; казалось, все кончено между ними. У Кристофа не было охоты заводить новых друзей. Он не сомневался, что граф и графиня Берени ничем не отличаются от тех снобов, которые любили выдавать себя за его друзей, и потому палец о палец не ударил, чтобы с ними встретиться. А если бы встретился, то скорее убежал бы от них. Он готов был убежать от всего Парижа. Ему хотелось побыть какое-то время одному, в близкой сердцу обстановке. Хорошо бы несколько дней, всего несколько дней, подышать живительным воздухом родины! Мало-помалу эта мысль переросла в болезненную потребность. Ему хотелось увидеть родную реку, родное небо, дорогие могилы. Он жаждал повидать их и не мог, не рискуя свободой: опасность ареста, нависшая над ним после бегства из Германии, не миновала. Тем не менее он готов был на любые безумства, лишь бы хоть день побыть там.
По счастью, он заговорил об этом с одним из своих новоявленных покровителей. На вечере, где исполнялись его произведения, молодой атташе германского посольства сказал ему, что Германия гордится таким композитором, на что Кристоф с горечью ответил:
— Гордится-то гордится, а не впустит к себе, хотя бы я умер у ее порога.
Молодой дипломат попросил объяснить, в чем дело, а через несколько дней приехал к Кристофу и сообщил:
— В высших сферах вами интересуются. О вашем положении было доведено до сведения очень высокого лица, могущего своею властью остановить исполнение приговора, тяготеющего над вами. Оно соизволило принять в вас участие. Удивительно, что ему понравилась ваша музыка. Между нами говоря, вкус у него не слишком хороший, однако голова светлая и сердце великодушное. Отменить приговор в данный момент не находят возможным, но если вы пробудете двое суток в родном городе я повидаете родных, на это закроют глаза. Вот вам паспорт. Не забудьте, что нужно завизировать его по приезде и при отъезде. Будьте осторожны и старайтесь не привлекать к себе внимания.
Кристоф вновь повидал родную землю. Те два дня, что были ему отпущены, он провел в общении с ней и с теми, кто в ней покоился. Он побывал на могиле матери. Могила поросла травой; но кто-то положил на холмик свежие цветы. Рядом покоились отец и дед. Он сел в ногах могилы. Она была у самой кладбищенской ограды. Ее осеняло каштановое дерево, росшее по ту сторону, у проезжей дороги. Через низенькую ограду виднелись золотые нивы, волнующиеся от теплого ветерка; солнце царило над разомлевшей землей; слышался крик перепелов во ржи и легкий шелест кипарисов над могилами. Кристоф задумался в одиночестве. На сердце у него было покойно. Он сидел, обхватив руками колено, прислонившись к ограде, и глядел в небо. На миг глаза его сомкнулись. Как все было ясно и просто! Он чувствовал себя дома, среди своих близких. Он сидел подле них, словно рука с рукой. Часы текли. Под вечер на песке дорожки зашуршали шаги. Прошел сторож и оглянулся на сидящего Кристофа. Кристоф спросил его, кто положил цветы на могилу. Сторож ответил, что буирская фермерша бывает здесь два раза в год.
— Лорхен? — сказал Кристоф.
— Вы, должно быть, сын? — спросил сторож.
— У нее было трое сыновей, — сказал Кристоф.
— Я про гамбургского говорю. Остальные вышли непутевые.
Кристоф сидел молча, не шевелясь, откинув назад голову. Солнце заходило.
— Пора запирать, — сказал сторож.
Кристоф встал и медленно обошел вместе с ним кладбище. Сторож показывал свои владения, как радушный хозяин. Кристоф останавливался и читал имена на памятниках. Сколько знакомых увидел он здесь! Старик Эйлер, его зять, подальше друзья детства, девочки, с которыми он играл, а вот имя, от которого у него сжалось сердце: Ада… Вечный им всем покой…
Зарево заката опоясывало мирные дали. Кристоф вышел с кладбища и долго еще бродил по полям. Загорались звезды…
Назавтра он опять пришел сюда и провел полдня на вчерашнем месте. Но вчерашний чудесный, молчаливый покой всколыхнула зазвучавшая в сердце беззаботная, радостная песня. Сидя на краю могилы и положив на колено нотную тетрадку, он набрасывал карандашом эту звучавшую в нем мелодию. Так прошел день. Ему казалось, что он работает в своей прежней каморке, а за перегородкой возится мама. Когда он кончил и собрался уходить, даже отошел уже на несколько шагов от могилы, он вдруг вернулся и положил тетрадку в траву, под плющом. Начал накрапывать дождь. Кристоф подумал:
«Она быстро сотрется. Тем лучше!.. Для тебя одной. Больше ни для кого».
Повидал он и реку, и знакомые улицы, где многое переменилось. Вдоль бульвара, проложенного за городской стеной между старинными бастионами, разрослась рощица акаций, которую насадили у него на глазах, теперь она глушила старые деревья. Проходя мимо сада фон Керихов, он узнал тот столбик, на который взбирался мальчишкой, чтобы заглянуть за ограду парка, и был очень удивлен, увидев, какими маленькими стали улица, ограда и сад. У ворот он на минуту задержался. И только двинулся дальше, как услышал стук колес проезжающего экипажа. Он невольно поднял взгляд и встретился со взглядом молодой дамы, пухленькой, румяной, оживленной; она с любопытством рассматривала Кристофа. Вдруг дама удивленно вскрикнула, приказала кучеру остановиться и позвала:
— Господин Крафт!
Он повернулся.
Она, смеясь, пояснила:
— Я — Минна…
Он бросился к ней почти с таким же волнением, как в день первой встречи[38]. Она представила сидевшего с ней рядом рослого, толстого, лысого господина с победоносно закрученными вверх усами: «Господин юстиции советник фон Бромбах», ее муж. Она настаивала, чтобы Кристоф зашел к ним. Он пытался уклониться. Но Минна твердила:
— Нет, нет, вы должны, непременно должны пообедать с нами.