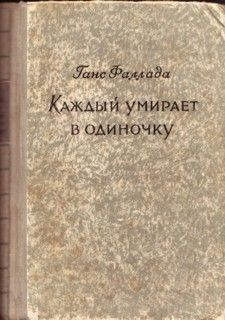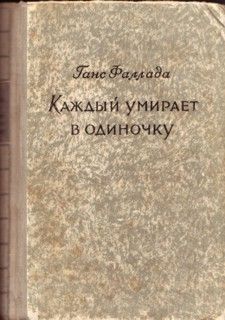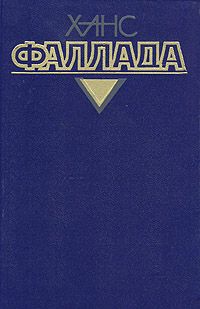Один в Берлине - Фаллада Ганс
Просидел он одиннадцать недель, клеил пакеты и трепал канаты, иначе бы ему урезали кормежку, которой и так-то сыт не будешь. Хуже всего было ночами, когда происходили воздушные налеты. Баркхаузен ужасно боялся воздушных налетов. Однажды на Шёнхаузер-аллее он видел женщину, в которую попала фосфорная бомба, — жуткое зрелище навсегда врезалось ему в память.
Словом, он изнывал от страха, и, когда самолеты с ревом приближались, когда их грохот наполнял все вокруг, а потом рвались первые бомбы и стена камеры багровела отсветом близких и далеких пожаров… Нет, эти мордовороты не отпирали камеры, не отводили узников в подвал, где бы они сидели в безопасности! В такие ночи вся огромная тюрьма Моабит впадала в истерику, заключенные цеплялись за оконные решетки и кричали — о, как они кричали! И Баркхаузен тоже кричал! Выл, как зверь, лежа на нарах, прятал голову под подушкой, потом бился головой о дверь камеры, то и дело головой о дверь, пока не падал на пол оглушенный, в изнеможении… Своего рода наркоз, благодаря которому он выдерживал такие ночи!
Проведя одиннадцать недель в КПЗ, домой он вернулся, понятно, в не слишком дружелюбном настроении. Доказать они, само собой, ничего не сумели, смешно ведь; но он вполне бы обошелся и без этой отсидки, не будь Отти такой подлюкой! И теперь, дома, обращался с ней как с подлюкой, она ведь недурно жила со своими дружками на его жилплощади (и регулярно вносила квартплату), меж тем как он трепал канаты и от страха едва не лишился рассудка.
Теперь кулачные удары в баркхаузеновской квартире сыпались градом. При малейшей попытке пикнуть Баркхаузен бил чем ни попадя, швырял ей в рожу все, что под руку подвернется, этой окаянной подлюке, которая навлекла на него столько бед.
Однако ж и Отти в долгу не оставалась. Еды для него никогда не было, денег тоже, как и курева. Когда он пускал в ход кулаки, на ее вопли чуть не весь дом сбегался, и все ополчались против Баркхаузена, хотя отлично знали, что она просто-напросто шлюха. А в один прекрасный день, когда он оттаскал ее за волосы и вырвал несколько пучков, она решилась на совсем уж гнусный поступок: сбежала из квартиры навсегда, бросила его с четырьмя ребятишками, из которых ни один не был его собственным. Черт побери, Баркхаузену пришлось по-настоящему идти работать, иначе бы все они померли с голоду; хозяйство теперь вела десятилетняя Паула.
Скверный выдался год, очень скверный! Вдобавок неуемная ненависть к этим Персике, с которыми он не мог и не смел поквитаться, бессильная злоба и зависть, когда в доме стало известно, что Бальдур идет в «наполу», и наконец крохотный, слабый проблеск надежды, когда старик Персике ударился в запой… может быть… все-таки, может быть…
И вот он сидит в квартире Персике, а на столике у окна стоит радиоприемник, который Бальдур спер у старухи Розенталь. Баркхаузен близок к цели, остается только, не вызывая подозрений, избавиться от этой гниды…
Глаза у Баркхаузена загораются при мысли о том, как бы взбесился Бальдур, увидев его здесь, за столом. Хитрый лис этот Бальдур, и все-таки хитрости у него маловато. Иной раз терпение стоит побольше, чем хитрость. И вдруг Баркхаузен вспоминает, что Бальдур вообще-то хотел учинить с ним и с Энно Клуге, когда они вломились в квартиру Розенталихи, ну, то есть взлом был ненастоящий, просто заказ…
Баркхаузен выпячивает нижнюю губу, задумчиво смотрит на своего визави, который во время долгого молчания весьма занервничал, и говорит:
— Ну, покажите-ка мне, что у вас в чемоданах!
— Послушайте, — крысеныш пытается возражать, — по-моему, это уж чересчур. Если мой друг, господин Персике, разрешил… то вы как управдом превышаете свои полномочия…
— Ах, бросьте вы эту болтологию! — говорит Баркхаузен. — Либо вы покажете мне, что у вас в чемоданах, либо мы идем в полицию.
— Я, конечно, не обязан, — пищит крысеныш, — но покажу, добровольно. От полиции вечно одни неприятности, а поскольку мой товарищ по партии, господин Персике, так захворал, не один день пройдет, пока он подтвердит мои слова…
— Давайте, давайте! Открывайте чемоданы! — неожиданно злобно рычит Баркхаузен и все-таки отпивает глоток из бутылки.
Крысеныш Клебс смотрит на него, по физиономии шпика вдруг расползается хамская усмешка. «Давайте, давайте! Открывайте!» — этот возглас выдал алчность Баркхаузена. И вдобавок выдал, что никакой он не управдом, а если даже и управдом, то намерения имеет неблаговидные.
— Ну что, кореш? — вдруг говорит крысеныш совершенно другим тоном. — Может, пополам поделим?
Удар кулака отправляет его на пол. На всякий случай Баркхаузен еще раз-другой огревает Клебса ножкой от стула. Вот так, в течение ближайшего часа он не пикнет!
Затем Баркхаузен принимается собирать и перекладывать добро. Розенталевское белье снова меняет владельца. Работает Баркхаузен быстро и совершенно спокойно. На сей раз никто не встрянет между ним и успехом. Лучше уж он со всеми разделается, пусть и ценой собственной головы! Не даст он сызнова себя одурачить.
А четверть часа спустя, на выходе из квартиры, его ожидала недолгая схватка с двумя полицейскими. Немножко топота и пререканий — и скрутили, повязали Баркхаузена.
— Ну вот! — удовлетворенно произнес отставной советник апелляционного суда Фромм. — Полагаю, таким образом, господин Баркхаузен, вашей деятельности в этом доме навсегда положен конец. Я не забуду передать ваших детей социальной службе. Впрочем, это вас, вероятно, не очень волнует. Итак, господа, теперь зайдемте в квартиру. Надеюсь, господин Баркхаузен, вы не нанесли серьезного вреда невысокому человеку, который поднялся по лестнице до вас. Наверно, мы найдем там и господина Персике, у которого, господин унтер-офицер, минувшей ночью случился приступ delirium tremens [35].
Глава 44
Интерлюдия. Сельская идиллия
Экс-почтальонша Эва Клуге трудится на картофельном поле, в точности как некогда мечтала. Начало лета, день выдался погожий, для работы довольно жаркий, небо сияет голубизной, почти безветренно, особенно здесь, в защищенном уголке возле леса. За прополкой Эва Клуге постепенно разделась, и сейчас на ней только блузка и юбка. Сильные голые ноги, как лицо и руки, золотит загар.
Тяпка корчует лебеду, дикую редьку, чертополох, пырей — работа продвигается медленно, участок сильно зарос. Нередко лезвие натыкается на камни, тогда слышится серебристый звон, очень приятный. Вот сейчас неподалеку от опушки Эва обнаружила заросли дербенника — ложбина сырая, картошка тут хиреет, зато дербенник процветает. Вообще-то она хотела позавтракать, судя по солнцу, уже пора, но лучше сперва истребить эту напасть, а уж потом сделать перерыв. Крепко сжав губы, она усердно орудует тяпкой. Здесь, в деревне, она научилась презирать сорняки, этих паразитов, и безжалостно их атакует.
Но хотя рот Эвы Клуге крепко сжат, глаза ее смотрят ясно и спокойно. Во взгляде больше нет того сурового, вечно озабоченного выражения, как два года назад, в Берлине. Она успокоилась, все переборола. Знает, что Энно нет в живых, Геш, соседка, написала ей из Берлина. Знает, что потеряла обоих сыновей — Макс погиб в России, а Карлеман для нее не существует. Ей пока нет и сорока пяти, впереди еще большой кусок жизни, она не отчаивается, работает. Хочет не просто скоротать оставшиеся годы, но что-то создать.
Есть у нее и кое-что, чему она радуется изо дня в день: ежевечерние встречи с внештатным деревенским учителем. «Настоящего», штатного учителя Швоха, фанатичного партийца, мелкого трусливого брюзгу и доносчика, который сотни раз со слезами на глазах уверял, как он сожалеет, что ему нельзя на фронт, что по приказу фюрера он вынужден оставаться на своем деревенском посту, — «настоящего» учителя Швоха, невзирая на кучу медицинских справок, все-таки призвали в вермахт. С тех пор минуло почти полгода. Но для этого ретивого вояки путь на фронт явно сопряжен с большими трудностями: учитель Швох по сию пору сидит писарем в финчасти. Госпожа Швох довольно часто ездит к мужу, отвозит ему сало и ветчину, но он, поди, ест эти восхитительные разносолы не в одиночку: дело в шляпе, сообщила фрау Швох после последнего ветчинного вояжа, ее добрый Вальтер станет унтер-офицером. Унтер-офицером! А ведь согласно приказу фюрера очередные звания присваиваются только в боевых частях. Однако на пламенных партийцев с ветчиной и салом подобные приказы фюрера конечно же не распространяются.