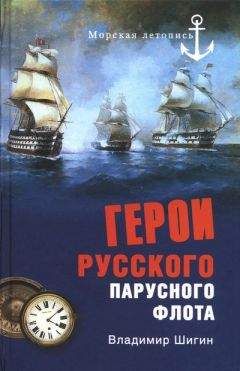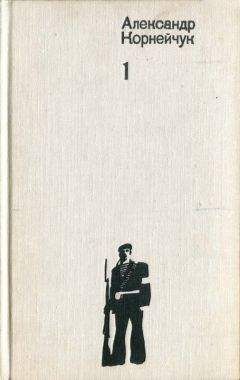Геннадий Красухин - Мои литературные святцы
27 декабря
Ростовский писатель Борис Изюмский оставил очень интересные воспоминания и дневник.
В дневнике от 7 сентября 1975 года он записал про нового руководителя Ростовской писательской организации Петра Лебеденко:
«Ещё не «придя к власти», он объявил повесть А. Немцева «Конец Шкандыбина» вещью… антисоветской, и мне с трудом удалось спасти книгу. Затем объявил вредной повесть П. Шестакова «Страх высоты» (по этой повести поставили фильм). В сентябре с. г. собрал Правление, чтобы приговорить к смерти книгу стихов Л. Григорьяна «Дневник». Поставил магнитофон, посадил стенографистку, собрал большинство голосов. М. Соколов кричал о книге: «Под нож!».
Книгу защищали Скрёбов, Игорь Бондаренко, Н. Суханова. Не помогло»
Паша Шестаков был нашим специальным корреспондентом по Ростову-на-Дону. Он писал детективы, был знаком и с ростовскими и с московскими милицейскими чинами, так что на него Лебеденко полез зря. А вот Лёня Григорьян был абсолютно незащищён, и я помню, как Паша советовался с нами в «Литературной газете» по поводу его стихов.
Книгу нам спасти не удалось. Хотя «Дневник» был не первой книгой Леонида Григорьевича Григорьяна (родился 27 декабря 1929 года), оспорить решение ростовской организации об уничтожении тиража мы не смогли. Я сам ходил в секретариат Союза писателей РСФСР, рассказывал аппаратчикам, какой замечательный Григорьян поэт, но мне ответили, что Григорьян под подозрением в обкоме, что его биография – тёмная, что во время войны немцы дважды оккупировали Ростов, и Григорьян оба раза оставался в городе.
Ясно было, что Лебеденко действовал не сам по себе, а с подачи какого-то обкомовского чиновника. Хотя, как довелось читать, Лебеденко от этой истории откусил сладкий кусок и для себя. Редактор, пропустившая в печать «Дневник» Григорьяна, была уволена за потерю бдительности. А на её место взяли жену Лебеденко.
Собственно, на этом скандал с Григорьяном закончился. По крайней мере, формально. Потому что через три года Лёне удалось в том же Ростове издать свою новую книжку.
Правда, подозреваю, что книгу выпустили именно из-за скандала с «Дневником». Слишком много хороших писателей обратились с протестом против действий Лебеденко в Ростовский обком. Я сам уговорил написать такие письма Михаила Дудина и Юлию Друнину.
Другое дело, что в Союз писателей Леонида Григорьяна не принимали с завидным упорством.
Он преподавал латынь сперва в спецщколе, потом в Ростовском медицинском институте, где стал заведующим кафедрой. Начал переводить прозу Камю (совместно с Даиной Вальяно). Специалисты очень хвалят перевод «Падения», «Калигулы», «Недоразумения». А перед этим вместе с университетском другом Олегом Тарасенковым Григорьян перевёл прекрасный сатирический роман Габриэля Шевалье «Клошмерль», который будет опубликован только в годы перестройки. Позже опять-таки вместе с Даиной Вальяно начал переводить тетралогию Сартра «Дороги свободы».
То есть он был прирождённым литератором, чего не скажешь о его коллегах, упорно не пропускавших его в профессиональный писательский союз. Он вступил уже не к ним, а в Союз российских писателей, который образовался в результате раскола в годы перестройки.
Григорьян оказался первым ростовским поэтом, принятым в этот Союз.
Он умер 30 августа 2010 года. Умер, слава Богу, известным поэтом.
Очень хорошим поэтом:
Как видно, подходит последняя сверка —
Сравнение с Замыслом выцветших черт.
Вот юность с гульбой-похвальбой экстраверта,
Вот старость, угрюмый скупец-интроверт.
Повыдохся дух, опостылело тело,
И, что называется, жизнь пролетела,
Да так, что почти не заметил её.
Все в норме, и, право, в пределах удела
И давешний гогот, и это нытьё.
Под занавес вдоволь наскучившей пьесы
Так жаждет душа (и стишок) антитезы,
Сводящей концы, и хотя б на краю
Прервать этот ход и банальность сию.
Да бес-соглядатай глумливо смеётся.
А Замысел Божий никак не даётся,
И всё завершится печальной строкой,
Никем не оспоренной: воля… покой…
Об Осипе Мандельштаме в последнее время написано большое количество работ. Его гениальные вещи разобраны по многу раз. Вот открыл и читаю первое попавшееся:
А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом
Да, видно, нельзя никак…
Нет, не такая радужная судьба была уготовлена русскому гению.
Передаю слово писателю, которому досталось видеть Мандельштама в лагере, который смерть Мандельштама срисовал с натуры:
«Да, он догадывался кое о чём из того, что ждало его впереди. На пересылке он многое успел понять и угадать. И он радовался, тихо радовался своему бессилию и надеялся, что умрёт. Он вспомнил давнишний тюремный спор: что хуже, что страшнее – лагерь или тюрьма? Никто ничего толком не знал, аргументы были умозрительные, и как жестоко улыбался человек, привезённый из лагеря в ту тюрьму. Он запомнил улыбку этого человека навсегда, так, что боялся её вспоминать.
Подумайте, как ловко он их обманет, тех, что привезли его сюда, если сейчас умрёт, – на целых десять лет. Он был несколько лет назад в ссылке и знал, что он занесён в особые списки навсегда. Навсегда?! Масштабы сместились, и слова изменили смысл.
Снова он почувствовал начинающийся прилив сил, именно прилив, как в море. Многочасовой прилив. А потом – отлив. Но море ведь не уходит от нас навсегда. Он ещё поправится.
Внезапно ему захотелось есть, но не было силы двигаться. Он медленно и трудно вспомнил, что отдал сегодняшний суп соседу, что кружка кипятку была его единственной пищей за последний день. Кроме хлеба, конечно. Но хлеб выдавали очень, очень давно. А вчерашний – украли. У кого-то ещё были силы воровать.
Так он лежал легко и бездумно, пока не наступило утро. Электрический свет стал чуть желтее, и принесли на больших фанерных подносах хлеб, как приносили каждый день.
Но он уже не волновался, не высматривал горбушку, не плакал, если горбушка доставалась не ему, не запихивал в рот дрожащими пальцами довесок, и довесок мгновенно таял во рту, ноздри его надувались, и он всем своим существом чувствовал вкус и запах свежего ржаного хлеба. А довеска уже не было во рту, хотя он не успел сделать глотка или пошевелить челюстью. Кусок хлеба растаял, исчез, и это было чудо – одно из многих здешних чудес. Нет, сейчас он не волновался. Но когда ему вложили в руки его суточную пайку, он обхватил её своими бескровными пальцами и прижал хлеб ко рту. Он кусал хлеб цинготными зубами, дёсны кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз…
Его останавливали соседи.
– Не ешь всё, лучше потом съешь, потом…
И поэт понял. Он широко раскрыл глаза, не выпуская окровавленного хлеба из грязных синеватых пальцев.
– Когда потом? – отчётливо и ясно выговорил он. И закрыл глаза.
К вечеру он умер.
Но списали его на два дня позднее, – изобретательным соседям его удавалось при раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца; мертвец поднимал руку, как кукла-марионетка. Стало быть, он умер раньше даты своей смерти – немаловажная деталь для будущих его биографов».
Так заканчивается рассказ Варлама Тихоновича Шаламова «Шерри-бренди».
Умер Осип Эмильевич 27 декабря 1938 года. Родился он 15 декабря 1891-го. 47 лет прожил на свете.
***Брат Давида и Владимира Бурлюков, Николай Давидович Бурлюк погиб 27 декабря 1920 года (родился 4 мая 1890-го). Вместе с братьями (и сестрой Людмилой Бурлюк-Кузнецовой) печатался в изданиях кубофутуристов («Пощёчина общественному вкусу», «Садок судей»), но он не урбанист, не занимался словотворением, как Маяковский, Давид Бурлюк или Кручёных. По поэтике он ближе к Ирине Гуро: импрессионистическая образность, музыкальность, мифологичность.
Показательно, что он отказался подписать манифест футуристов «Идите к чёрту», оскорбляющий акмеистов. Напротив. Он дружил с Гумилёвым, принимал участие в заседаниях его «Цеха поэтов».
Писал лирическую прозу.
В 1916 году был мобилизован в действующую армию, а после революции служил в тех войсках, куда заносили его обстоятельства.
Не выдержав службы, скрывался от мобилизации, но на горе себе явился в Херсоне стать на учёт Красной армии как белый офицер. На учёт его ставить не стали, а сразу же армейской «тройкой» приговорили к расстрелу.
Он оставил после себя не слишком обширное и не очень интересное наследие.
28 декабря