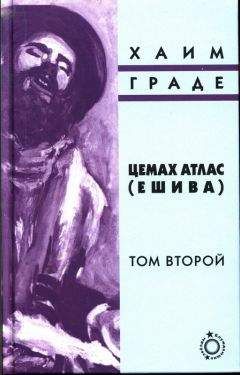Хаим Граде - Мамины субботы
— Понимаю, — испуганно и взволнованно бормочет он, и я вижу, что он ничего не понимает. — Два года назад, когда на Субоче построили евреев для ликвидации, меня уже в гетто не было. Но, когда я еще жил здесь, я знал вашу жену. Она была медсестрой и работала с детьми в еврейской больнице. Моя девочка однажды заболела и лежала там. Я слышал, как медсестру звали вашей фамилией и понял, что это ваша жена. Я рассказал ей, что холостым парнем вы к нам заходили. Вы знали, что ваша жена работала в еврейской больнице?
— Знал.
— Потом с двумя подругами она перебралась в мезонин, это тут наверху, надо мной, — показывает на потолок Балберишкин. — Я ведь вам говорил, что жил здесь, в этом подвальчике во времена гетто. Лестница в мезонин — во дворе. На двери мезонина белым мелом написана цифра девять. Вы знали, что в гетто ваша жена жила здесь, в этом дворе, в квартире номер девять?
— Нет, не знал, — отвечаю я.
— Вот видите! — восклицает Балберишкин, радуясь тому, что он может мне чем-то услужить. — Пойдемте, взломаем дверь и поднимемся. Может быть, там что-то завалялось — возьмете на память. — Балберишкин снимает с проволочного крюка керосиновую лампу.
— Я же сказал, мне ничего не надо на память, — говорю я, выбегая из подвальчика с такой поспешностью, будто Балберишкин хотел поджечь меня керосиновой лампой. Но он с лампой в руке догоняет меня в прихожей.
— А когда я получу весточку о сыне?
— Я расспрошу о нем вернувшихся беженцев и еврейских солдат, — обещаю я и хочу подняться по лестнице.
Он хватает меня за руку, не дает уйти. Лампа начинает качаться, огонек под стеклом мечется, дергается, борется с дующим снаружи ветром. Балберишкин отпускает меня и пытается загородить стекло ладонями. При этом на его лице отражается такой страх, словно в огоньке и впрямь заключена его девочка. Я боюсь, что он опять начнет настаивать, чтобы мы поднялись в квартиру 9, и торопливо лезу вверх по проваленным ступеням. Он идет за мной, и я слышу дребезжание стекла. Лампа выпала из руки Балберишкина, разбилась, и на ступенях подвальчика стало темно.
— А если моего сына нет в живых? — из тьмы рыдает мне вслед сапожник.
Но я ему не отвечаю. Я выбегаю на улицу и исчезаю в пустых переулках разрушенного гетто.
Детский врач
Детский врач Анна Иткин спаслась с одним из своих сыновей. Ее муж и второй сын погибли. Я знал ее еще до войны, и, судя по внешнему виду, она совсем не изменилась. Такая же высокая, стройная, со смуглой кожей, темными глазами и седыми висками. На лице у нее бородавка, которая делает Анну Иткин похожей на добрую бабушку. Улыбаясь, она становится моложе и напряженнее. Женщины еврейских кварталов любили ее за ум и спокойный нрав. До войны я не раз встречал ее в семи переулках: она ходила с докторской сумкой и останавливалась на углах рядом с молодыми матерями, которые выгуливали на солнце своих малышей. Анна Иткин всегда помнила, чем болел каждый малыш, и это очень нравилось мамам. Еще больше им нравилось то, что докторша не стоит с ними по полдня и не жалуется, как старая еврейка. Коротко спросит одну женщину, как животик девочки, другую — прошла ли сыпь у мальчика, третью — не шелушится ли кожа между ножками ребенка, и идет дальше по вызовам. Женщины очень уважали ее, и когда докторша строго велела перепуганной мамаше перестать охать, та сразу успокаивалась.
Вернувшись в Вильну, я по-прежнему встречаю Анну Иткин, которая носит докторскую сумку с тем же спокойствием и достоинством. Только ее глаза больше не ищут молодых мам с колясками на углах Завальной, Рудницкой и улицы Стефана[191]. Теперь она детский врач в интернате для спасшихся сирот. Она ходит туда каждый день и, как я заметил, делает большой крюк, чтобы не проходить через гетто.
При первой встрече она сказала мне, что Фрума-Либча работала с ней в гетто в детском отделении еврейской больницы. Поскольку я стоял и молчал, Анна Иткин поняла, что мне тяжело говорить об этом, и больше о моей жене не упоминала.
После того вечера, когда сапожник пытался проводить меня в квартиру 9, где жила Фрума-Либча, я однажды утром пошел к детскому врачу. Я просто хотел посидеть и поговорить с этой женщиной, работавшей с моей женой в детском отделении больницы. В то же время я боялся, как бы Анна Иткин не начала рассказывать о Фруме-Либче.
Мне открыла сама хозяйка и пригласила в кабинет, где она принимала пациентов, но в открытую дверь я успел бросить взгляд на ее квартиру. Анна Иткин казалась женщиной, у которой как в голове, так и в шкафах царит строгий порядок. Поэтому я удивился, увидев хаос в ее квартире, разделенной ширмой надвое. Вдоль стен теснились комоды и этажерки, в углах валялись свернутые ковры и старая, поблекшая масляная живопись, а на столе посреди комнаты высились горы посуды. Я подумал, что, возможно, она разыскала мебель из своей довоенной квартиры и перетащила ее в нынешнее тесное жилье.
В кабинете, куда она меня привела, было просторно и пустынно. Здесь стояли кушетка, стеклянный шкафчик с медицинскими инструментами, письменный стол у окна. И на мраморном столике — весы для взвешивания младенцев. Эта комната со свежепокрашенными стенами и немногочисленной мебелью слепила глаза и казалась вмерзшей в белоснежную глыбу льда. Хозяйка, севшая за письменный стол спиной к окну и лицом ко мне, тоже словно застыла. Я смотрел на весы для младенцев, этот большой эмалированный совок, и думал: вместо детей осталось взвешивать землю.
— А где сын? — спросил я.
— Болек еще спит там, за ширмой, — вздохнула мать, как будто сама до моего прихода сидела и думала о сыне. — Когда не стало моего мужа, его прежде всего потеряла я, жена, но, когда погиб мой сын, его потерял весь мир. Он был юн и мог принести этому миру большую пользу. Теперь сын у меня только один. Я умоляю его подумать о завершении учебы, начатой им до войны. Но у него на уме совсем другое.
Сын Анны Иткин, Болек — чернявый широкоплечий парень с благородным, интеллигентным лицом и игривыми глазами жизнерадостного юноши. По нему сразу видно, что его хорошо воспитывали, что он из состоятельного дома. От погибшего отца у Болека осталось немного денег, он сберег их в гетто и сразу же после войны начал торговать. Советские законы о спекуляции его не пугают. «Я пережил куда большую опасность», — говорит он и торгует всем, чем торговать нельзя. Деньги Болек тратит на друзей и женщин, играет в карты и даже пьет с советскими шишками в недавно открытых ресторанах. Он никогда не вспоминает гетто, не хвалится своими подвигами, не намекает, во сколько ему обходятся друзья, словно и не знает об этом. Он говорит только о женщинах, сыплет шутками и при этом смеется во всю глотку.
— Ваш сын прав, — утешаю я Анну Иткин. — Сейчас все вокруг твердят: «Не забудьте того, что было!» Но это просто слова. Есть только два пути: помнить то, что было, и отвергнуть жизнь, либо жить и забыть гетто.
— Это-то меня и беспокоит: мой сын до сих пор живет в гетто, — вздыхает Анна Иткин. По своей натуре, говорит она, Болек тихий студент, а не торговец, или, как это называют Советы, спекулянт. В его характере любить одну девушку, иметь двух-трех достойных друзей и краснеть от двусмысленной шутки. И раз он сорит деньгами, лезет в опасные авантюры и неразборчив в друзьях и женщинах, значит, он все еще живет в гетто. Гулять Болек начал именно там. И это несмотря на то, что в гетто их семья старалась жить привычной жизнью. Люди тогда спали в одежде на случай, если будет акция и придется бежать, прятаться в убежищах; а она раздевалась и ложилась, как в старые добрые времена. Когда Анна Иткин думает об их с мужем совместной жизни, она старается не вспоминать годы после прихода немцев. Но если она все-таки думает о гетто, то представляет прожитые там нормальные дни.
— Я избегаю проходить через гетто, а вы, я вижу, бродите там целыми днями, — смеется она и тут же испуганно замолкает, словно почувствовав, что в ее смехе, как в бездне, погребены погибшие муж и сын.
— Да, — отвечаю я, — я подолгу брожу среди руин и пытаюсь понять, что вы называете нормальными днями в гетто. Я точно знаю его размеры, знаю, какие дворы в него входили. Я спускался в пару подземных убежищ, где прятались евреи. Мне известен порядок убийств, хроника резни. Но я совсем не понимаю, как люди жили от акции до акции, как пели песни, ходили на концерты, женились и праздновали. Гибель в гетто я представляю, но жизнь в гетто представить не могу.
— Сами жители гетто уже не представляют ее. — Анна Иткин сидит мучительно прямо, словно борясь с ломотой во всех костях, вызванной застарелым ревматизмом. — Покинув гетто, я с каждым днем все меньше понимаю, как я могла там жить. И со временем перестану понимать вовсе.
— Вы говорите, что перестаете понимать, а я не хочу понимать! То есть я хочу понять, но принять не смогу! — вскакиваю я с криком и тут же снова сажусь на стул. — Как можно принять эти «нормальные дни» в гетто? Как можно вернуться после них к обычной жизни? Прежде чем я снова впрягусь в упряжку и продолжу свое проклятое существование, я должен примириться с тем, что произошло.