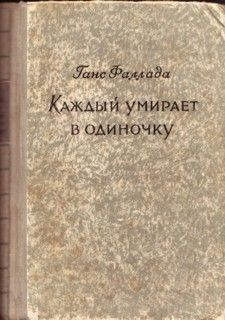Ганс Фаллада - Каждый умирает в одиночку
Окрик «Цотт», без всякого титулования, прогремел как первый орудийный залп.
Пустяковое дело! — следователь успокоительно помахал своей пергаментно-желтой ручкой. — Что-то там намудрили в участке. Захватили каких-то людишек, мужа и жену — якобы именно они писали или распространяли открытки. Понятно, очередная выдумка полиции. Какие там муж и жена — ведь мы же знаем, что тот живет один! Да и вот еще несуразность — этот по профессии был столяр, а настоящий, как мы знаем, имеет отношение к трамваю!
— Вы хотите этим сказать, сударь, — произнес, еще сдерживаясь, обергруппенфюрер (слово «сударь» было вторым и куда более метким выстрелом в этом бою), — вы хотите сказать, что дали приказ об освобождении арестованных только потому, что их было двое вместо одного и что мужчина назвался столяром. А сами даже не потрудились взглянуть на них и допросить? Так, сударь?!
— Господин обергруппенфюрер, — возразил следователь Цотт и поднялся с места. — Мы, криминалисты, действуем по определенному плану и не отклоняемся от него. Я разыскиваю одинокого человека, имеющего отношение к трамваю, а не какого-то отца семейства, да еще столяра. Этот меня не интересует, ради него я и шагу не сделаю.
— Как будто столяр не может работать в трамвайном парке, ремонтировать вагоны, например! — взорвался Праль. — Что за непроходимая тупость!
Цотт собрался было обидеться, но справедливое замечание начальника озадачило его. — Да, конечно, — сконфуженно ответил он, — об этом я, конечно, не подумал. Но я ищу одинокого человека, — продолжал он, оправившись. — А этот женат.
— Не знаете вы разве, на какие пакости способны бабы? — буркнул Праль. Но у него наготове был еще козырь: — А вы не подумали, господин советник Цотт (третий и самый меткий выстрел), что открытка была подброшена в воскресенье, под вечер, недалеко от Ноллендорфплац, то есть в районе данного полицейского участка. Неужели и эта маленькая ничтожная улика ускользнула от вашей криминалистической проницательности?
На сей раз советник Цотт был по-настоящему огорошен, козлиная бородка его задрожала, темные, умные глаза помутнели.
— Я до крайности сконфужен и огорчен, господин обергруппенфюрер! Как это могло со мной случиться?
Да, конечно, я оплошал. Дались мне эти трамвайные парки! Уж очень я гордился своей догадкой. Не в меру гордился…
Обергруппенфюрер злобно смотрел на этого человечка, который в искренном сокрушении каялся в своих грехах.
— Это была ошибка, большая ошибка, — с жаром говорил Цотт. — Мне не следовало брать на себя это дознание. Мое дело — спокойная кабинетная работа, а не розыск преступников. Коллега Эшерих куда более пригоден для такой работы. К тому же меня тут постигла еще одна неудача, — продолжал он покаянным тоном. — Я поручил слежку в одном из намеченных домов своему человеку, некоему Клебсу, а его арестовали будто бы за соучастие в краже, — в ограблении одного алкоголика. Вдобавок он тяжело ранен. Вообще, пренеприятная история. При разборе дела он молчать не будет и прямо скажет, что мы послали его…
Обергруппенфюрер Праль дрожал от злости, но смиренная искренность и полное равнодушие Цотта к собственной участи пока что держали его в узде. — А как вы представляете себе продолжение дела? — холодно спросил он.
— Господин обергруппенфюрер, прошу вас, — и Цотт умоляюще поднял руки, — прошу вас, увольте меня! Увольте от этого поручения, — мне оно ни в каком смысле не по плечу! Верните из подвала комиссара Эшериха, он с этим справится лучше…
— Надеюсь, — сказал Праль, пропустив мимо ушей все сказанное советником, — надеюсь, вы хотя бы записали адреса этих двух, — которых задержали и отпустили?
— Нет, не записал! Я был загипнотизирован своей навязчивой идеей и действовал с преступным легкомыслием. Но я свяжусь с участком, мне скажут адреса, и мы выясним.
— Ну, так свяжитесь же!
Разговор был очень краток. Советник доложил обергруппенфюреру: — Они тоже не записали адресов. — И в ответ на гневный жест начальника: — Я, я один во всем виноват. После телефонного разговора со мной они сочли вопрос исчерпанным. По моей вине даже и дела-то не завели!
— Так что теперь у нас нет никаких следов?
— Никаких!
— И как же вы расцениваете свое поведение?
— Я прошу выпустить из подвала комиссара Эшериха!
Обергруппенфюрер Праль некоторое время безмолвно смотрел на стоявшего перед ним человечка. Затем, дрожа от ярости, произнес: — Понимаете вы, что я отправлю вас в концлагерь? Вы мне, мне, осмеливаетесь предлагать такую штуку и не дрожите, не воете от страха? Значит, вы из одного теста с красными. Вы признаете свою вину, но как будто даже хвастаете ею!
— Нет, я не хвастаю своей виной. Но я готов нести все ее последствия. И надеюсь, что не буду при этом ни дрожать, ни выть!
На эти слова обергруппенфюрер Праль только презрительно ухмыльнулся: немало собственного достоинства рушилось у него на глазах под побоями эсэсовцев. Но и не раз приходилось ему видеть у истязуемых тог незабываемый взгляд, взгляд спокойного, чуть ли не презрительного превосходства — посреди самой лютой пытки. И вспомнив тот взгляд, он не стал орать и бить, а сказал только: — Оставайтесь здесь в комнате, в моем распоряжении. Я пойду доложить о вас.
Советник Цотт кивнул головой в знак согласия, и обергруппенфюрер Праль ушел.
ГЛАВА 45
Комиссар Эшерих снова на свободе
Комиссар Эшерих восстановлен в должности. Тот, кого считали сгинувшим в подвалах гестапо, вернулся к жизни. Он порядком помят и потрепан, но все же сидит снова за своим письменным столом, и коллеги спешат выразить ему сочувствие. Они всегда верили в него. Они охотно сделали бы для него все, что в их власти. — Да ведь ты сам знаешь, раз уж высшее начальство отправляет кого-нибудь в застенок, наш брат тут бессилен. Только себя подведешь. Ну, да ты знаешь и понимаешь сам, Эшерих.
Эшерих заверяет, что понимает все. Он кривит губы в улыбке, которая выходит довольно жалкой, — верно потому, что Эшерих еще не научился улыбаться, когда у него недостает зубов.
Только две речи по поводу восстановления его в должности произвели на него впечатление. Первую произнес Цотт.
— Коллега Эшерих, — сказал ему Цотт, — меня не засадят в подвал на ваше место, хотя заслужил я это в десять раз больше вас. И не только потому, что натворил ошибок, но и потому, что по-свински поступил с вами. Я считал, что вы плохо работали — вот мое единственное оправдание…
— Бросьте говорить об этом, — ответил Эшерих с беззубой улыбкой. — В деле невидимки все до сих пор работали плохо — и вы, и я, словом все. Смешно сказать, но мне очень любопытно поглядеть на этого субъекта. Большой, должно быть, чудак…
Он задумчиво поглядел на Цотта.
Тот протянул ему свою пергаментно-желтую ручку.
— Не думайте обо мне слишком дурно, коллега Эшерих, — тихо сказал он. — Да и вот еще что: я там выдвинул новую версию, будто преступник имеет отношение к трамваю. Вы это увидите в деле. Пожалуйста, не отметайте этой версии при дознании. Я был бы счастлив, если бы хоть одно из моих предположений оправдало себя! Пожалуйста, имейте это в виду!
И советник по уголовным делам Цотт исчез в своем уединенном тихом кабинете и окончательно погрузился в теоретические выкладки.
Вторую впечатляющую речь держал, разумеется, обергруппенфюрер Праль. — Эшерих, — произнес он зычным голосом, — комиссар Эшерих! Вы вполне оправились?
— Вполне оправился! — ответил комиссар. Он стоял у своего письменного стола, машинально вытянув по швам руки с плотно прижатыми большими пальцами, как учили его внизу, в камере. Как ни старался комиссар овладеть собой, он весь дрожал. Глазами он «ел» начальство. Перед обергруппенфюрером он испытывал только страх, животный страх, ведь тот в любую минуту мог отправить его назад, в подвал.
— Раз вы совсем оправились, Эшерих, — продолжал Праль, превосходно понимая действие своих слов, — вы можете снова работать. Верно?
— Да, я могу работать, господин обергруппенфюрер!
— А раз вы можете работать, значит можете поймать невидимку! Можете?
— Могу, господин обергруппенфюрер!
— В кратчайший срок, Эшерих!
— В кратчайший срок, господин обергруппенфюрер!
— Вот видите, Эшерих, — заметил обергруппенфюрер Праль, наслаждаясь страхом подчиненного. — До чего благотворно действует небольшой отдых в подвале! Такие люди мне и нужны! Вы теперь не так уж убеждены в своем превосходстве надо мной, господин Эшерих?
— Помилуйте, господин обергруппенфюрер! Конечно, нет. Так точно, господин обергруппенфюрер!
— Вы больше не считаете себя самой хитрой бестией во всем гестапо, а других — собачьим дермом, не считаете, Эшерих?