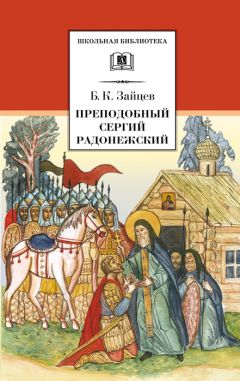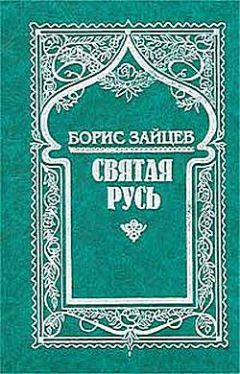Борис Зайцев - Рассказы
Но «Потонувший колокол» не был боевым спектаклем. Боевою оказалась чеховская «Чайка». Она дала лицо театру, окончательно завоевала Москву.
История этой «Чайки» известна: предварительны провал в Александринском театре, колебания Художественного — большое желание Немировича-Данченко поставить пьесу и некое сопротивление (вначале) Станиславского. У самого Чехова, как раз, обострился туберкулез, близкие очень боялись, что неуспех пьесы может совсем дурно на него повлиять — приезжала даже в Москву Мария Павловна, настаивала на отмене спектакля. Но спектакль был театру необходим — и решили рискнуть…
Чуть не сорок лет тому назад мы с сестрой, в юной компании, без взрослых, сидели в ложе бенуара справа — в обыкновенной ложе, сообща купленной. Ни о каких волнениях автора и театра не знали. Даже не знали, что пьеса провалилась уже в Петербурге (у нас Москва, мы только своим интересуемся). Занавес поднялся — на сцене полутемно, какой-то парк, прямо перед зрителем скамейка. Говорят и ходят довольно странно какие-то люди. Наконец, выясняется, что молодой писатель, нервный и непризнанный, ставит тут же, в саду, свою декадентскую пьесу. Молодая актриса, закутанная в белое, читает нечто лирико-философическое о мировой душе… На скамье сидят зрители — спиною к публике…
Все это поначалу показалось очень уж причудливым. Публика молчала в недоумении. Но чем дальше шел первый акт, тем сильнее сочилось со сцены особенное что-то, горестно-поэтическое, сжимающее сердце. Что? Не так легко и определить. Выесловесное, может быть, музыкальное — но некая власть шла оттуда — зрительный зал "- падал сладостному наркозу искусства. Как удалось уловить «им» внутренний звук пьесы, ее стон, ритм? Это уж загадка художества, живого и органического, т. е. очень таинственного дела.
Пьеса, как говорят в театре, «дошла». Занавес опустился. Зрительный зал молчал. За сценой актеры умирали со страху. Одна из актрис упала в обморок.
Молчание зрителей было плодоносное, самое дорогое для театра: настолько сильно впечатление и волнение, что не сразу и вырывается в аплодисмент. Зато вырвавшись, долго не смолкает.
…Нечего актрисе было падать в обморок. Первый акт имел огромный успех — он и нарастал до самого конца.
* * *
В «Чайке» театр показал основные свои черты: единство спектакля, его музыкальную цельность, как бы оркестровый характер. Показал и основное ядро своих сил.
Играли: сам Станиславский, Лужский, Вишневский, Артем, Книппер, Лилина. Все это — будущая слава театра, художники, которым предстоял живой, естественный рост. Чудесного Артема, к сожалению, нет уже в живых, нет и Лужского, остальные здравствуют, напоминая собой о прекрасных, героических временах московского театра.
Странна судьба двух участников первого представления «Чайки» — Мейерхольда и Роксановой.
Мейерхольд играл отлично — неудачника. Треплев-Мейерхольд стреляется по пьесе. Нервное и одаренное, и недоодаренное дал Мейерхольд в этой фигуре: сыграл как бы себя самого. Черты талантливости без некоего «Божьего благословения», нервность без влаги, головная, сухая возбужденность и неспособность к творчеству органическому, из почвы, подсознания идущему — это, кажется, и есть Мейерхольд. Он ушел довольно скоро от Станиславского. Как актер, ничего не дал. Как режиссер, обнаружил много и выдумки, и изящества — прямо даже дарования («Балаганчик» Блока — замечательная постановка). Но, в общем, неблагодатность и бесплодие определили путь этого незаурядного человека. Он стал врагом Станиславского, врагом Москвы, корней, истинных соков русской земли. В жилах его будто не кровь, а клюквенный сок блоковского «Балаганчика». Как многие неудачники и полунеудачники примкнул сразу, с бешенством и яростью к коммунизму. Сделал одну-две интересных постановки и прославился «переделками» (искажениями) классических пьес. Сейчас, кажется, и у советской власти не в почете… А во всяком случае: как был, так и остался в безвоздушном пространстве.
Роксанова… — Станиславский, в воспоминаниях, перечисляет актрис, выдвинувшихся в «Чайке». (Книппер и Лилина). О Роксановой — самой Чайке — не сказано. И не мог он сказать: она просто плохо играла. Единственный слабый пункт пьесы — сама Чайка! В тех же воспоминаниях говорится, что Чехов был в отчаянии от «одной актрисы»… Он даже требовал, чтобы у ней взяли роль. Она тоже не удержалась в театре, не прижилась в нем. Какова ее судьба дальнейшая, но знаю.
…Не она ли и упала в обморок после первого акта? Если да, то о пьесе ошиблась, а о себе — нет.
ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
Кажется, в жизни Андреева (писательской, а может быть и личной) годы 1901–1906 были самыми полными, радостными, бодрыми. Все его существо летело тогда вперед; он полон был сил, писал рьяно; несмотря на самые мрачные «Бездны», на «Василия Фивейского» — полон был надежд, успехов, и безжалостная жизнь не надломила еще его. Он только что женился на А. М. Виельгорской, нежной и тихой девушке. Светлая рука чувствовалась над ним. На его бурную, страстную натуру, очень некрепкую, это влияние ложилось умеряюще. Слава же росла, шли деньги; Андреевы жили шире; давно была оставлена квартирка на Владимиро-Долгоруковской2, где мы познакомились. Квартиры становились лучше, появился достаток. Часто люди бывали, чтения. В те времена процветал в Москве литературный кружок «Среда». По средам собирались у Н. Д. Телешова, у С. С. Голоушева и у Андреева. Бывали: Бунин Иван, Бунин Юлий, Вересаев, Белоусов, Тимковский, Разумовский и др. Из заезжих: Чехов, Горький, Короленко. Бывали и Бальмонт и Брюсов. Каждый раз что-нибудь читали. Много прочитал Андреев — думаю, всех больше. Он читал сдержанно, несколько однообразно, иногда поправляя густые волосы, свешивающиеся на лоб; в левой руке папироса; иногда помахивал ею в такт, и из-под опущенного лба быстро взглядывал горячими своими глазами.
Меня наверно он гипнотизировал. Мне все нравилось, и безраздельно, в нем и его писании. В спорах о прочитанном я всегда был на его стороне. Впрочем, и вообще он имел тогда большой успех, очень всех возбуждал, хотя образ его писаний мало подходил к складу слушателей. Но на «Среде» держались просто, дружественно; дух товарищеской благожелательности преобладал. И тогда даже, когда вещь корили, это делалось необидно. Вообще же это были московские, приветливые и «добрые» вечера. Вечера не бурные по духовной напряженности, несколько провинциальные, но хорошие своим гуманитарным тоном, воздухом ясным, дружелюбным (иногда очень уж покойным). Входя, многие целовались; большинство было на т ы (что особенно любил Андреев); давали друг другу прозвища, похлопывали по плечам, смеялись, острили, и в конце концов, по стародавнему обычаю Москвы, обильно ужинали.
Можно сказать: Москва старинная, хлебосольная и благодушная. Можно сказать и так, что писателю молодому хотелось больше молодости, возбуждения и новизны. Все же свой великорусский, мягкий и воспитывающий воздух «Среда» имела. Знаю, что и Андреев любил ее. А судьба решила, чтобы из членов ее он ушел первый — один из самых младших.
Иногда я ходил к нему по утрам — это значит, о чем-нибудь хотелось говорить; как порядочный писатель русский, он вставал поздно; как москвич — бесконечно распивал чаи, наливал на блюдечко, дул, пил со вкусом; к приходившему относился с великим дружелюбием. Может быть и нехорошо было идти к человеку утром; может быть и необязательно разговаривать так много; все же вспоминаешь с удовольствием об этих утренних русских разговорах где-нибудь на Пресне, при белом снеге с улицы, деревцах вдоль тротуаров, низком лете ворон с веток на крышу дома. Говорили о Боге, смерти, о литературе, революции, войне, о чем угодно. Куря, шагая из угла в угол, туша и зажигая новые папиросы, Андреев долго, с жаром ораторствовал. Говорил он неплохо. Но имел привычку злоупотреблять сравнениями и любил острить. Юмор его был какой-то странный: и была в нем эта жилка, и чего-то не хватало. И во всяком случае, в его писании юмор несвободен. Он не радует.
В три Андреев обедал, а потом ложился спать, черта не европейская, как и во всем был он весьма далек от европейца. (Носил поддонку, а позднее ходил в бархатной куртке. Среди «передовых» писателей была у лас тогда мода одеваться
безобразно, дабы видом своим отрицать буржуазность). Проснувшись вечером, часов в восемь, опять пил крепкий чай, накуривался и садился на всю ночь писать. Тут он разогревался; голова накалялась, и легко, непроизвольно родила образы страшные, иногда чудовищные. Писание было для него опьянением, очень сильным; в молодости, впрочем, он вообще пил; и, как рассказывал, наибольшая радость в том заключалась, что уходил мир обычный. Он погружался в бред, в мечты; и это лучше выходило, чем действительность. Студентом, после попойки, в целой компании друзей, таких же фантасмагористов, он уехал раз, без гроша денег, в Петербург; там прожили они, в таком же трансе, целую неделю; собирались даже чуть не вокруг света.