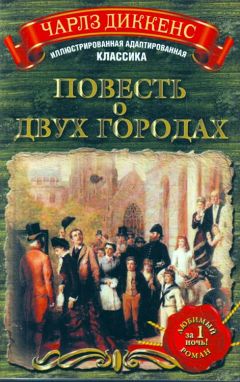Чарльз Диккенс - Повесть о двух городах
Как будто долго бушевавшая буря унялась наконец, — сразу наступила тишина. Я развязал ей руки и позвал женщину помочь мне как следует уложить больную и снять с нее разорванное платье. И тут только я обнаружил, что она в тягости, и перестал надеяться на ее выздоровленье.
— Кончилась? — спросил, входя в комнату, маркиз, которого я по-прежнему буду называть старшим братом. Он был в высоких сапогах, видно только что приехал откуда-то верхом.
— Нет, — ответил я, — но выживет вряд ли.
— Какая выносливость и сила в этих простолюдинах, — сказал он, глядя на нее с любопытством.
— Горе и отчаянье таят в себе непостижимую силу, — заметил я.
Он рассмеялся на мои слова, но тут же нахмурился. Затем пододвинул стул ногой, сел около меня и, приказав женщине уйти, заговорил, понизив голос:
— Доктор, когда я увидел, в каком неприятном и затруднительном положении очутился мой брат из-за этой деревенщины, я посоветовал ему прибегнуть к вашей помощи. У вас прекрасная репутация, вы еще молоды и можете сделать блестящую карьеру. Я полагаю, вы соблюдаете свои интересы. Все, что вы видите здесь, должно остаться при вас. Говорить об этом не следует.
Я прислушивался к дыханию больной и промолчал.
— Вы изволите слушать меня, доктор?
— В моей профессии, сударь, все, что врач слышит от пациента, остается между ними. — Я отвечал осторожно, потому что был глубоко удручен и взволнован тем, что я здесь видел и слышал.
Дыхание больной было так слабо, что я нагнулся пощупать ее пульс и проверить сердце. Оно едва билось. Когда я, выпрямившись, откинулся на спинку стула, я увидел, что оба брата следят за мной, не сводя глаз.
Писать очень трудно, такой невыносимый холод, и я так боюсь, что меня застанут и отправят в штрафную камеру, в подвал, в полную темноту, что я вынужден сократить свой рассказ. Это не потому, что мне изменяет память, я помню все до мельчайших подробностей и могу повторить все разговоры, каждое слово, произнесенное братьями.
Она протянула неделю. Незадолго до ее кончины мне удалось разобрать несколько слов, которые она прошептала мне на ухо. Она спросила меня, где она? Я сказал ей. Потом она спросила меня, кто я? Я ответил. Но я тщетно пытался узнать ее имя. Чуть заметным движением головы она так же, как и ее брат, отказалась назвать себя.
Мне ни разу не представилась возможность расспросить ее о чем-нибудь, пока я не сказал братьям, что она вряд ли доживет до следующего дня. До тех пор, хотя она не видела никого, кроме меня и прислуживающей женщины, всякий раз, когда я сидел у ее постели, кто-нибудь из братьев непременно находился тут же за занавеской у ее изголовья. Но когда я сказал им, что она умирает, их, по-видимому, перестало беспокоить, что она о чем-то может проговориться, — как будто и я тоже обречен умереть, невольно подумалось мне.
Я давно заметил, что гордость братьев была сильно уязвлена тем, что младший вынужден был драться на шпагах с простолюдином, да еще с таким мальчишкой. Это ставило их в смешное положение, оскорбляло их фамильную честь, и, очевидно, только это и удручало их. Всякий раз, когда я ловил на себе взгляд младшего брата, я видел по его глазам, что он не может простить мне того, что я узнал о нем от погибшего юноши. И хотя он был со мной гораздо любезнее и учтивее, чем старший, я не мог не чувствовать его неприязни. Но я видел, что и старший тяготится мною.
Моя пациентка скончалась в десять часов вечера по моим часам, чуть ли не минута в минуту в то самое время, как я увидел ее первый раз. Я был один около нее, когда ее юная беспомощная головка бессильно склонилась к плечу и все ее земные горести и несчастья кончились.
Братья собирались уезжать и нетерпеливо дожидались меня внизу. Я, сидя у ее постели, слышал, как они расхаживали взад и вперед, похлопывая хлыстами по сапогам.
— Кончилась наконец? — спросил меня старший, когда я сошел к ним.
— Умерла, — ответил я.
— Поздравляю, братец, — вот все, что он сказал, повернувшись к младшему.
Он протянул мне сверток сложенных столбиком золотых монет. Я взял его и положил на стол. Они уже и раньше предлагали мне деньги, но я отказывался. Я твердо решил не брать денег.
— Простите, — сказал я, — обстоятельства таковы, что я не могу принять платы.
Они переглянулись, молча кивнули в ответ на мой поклон, и мы расстались…
У меня совсем нет сил, нет сил… Несчастье сломило меня, я даже не в состоянии перечесть то, что написала моя онемевшая рука.
На следующий день рано утром я обнаружил сверток с золотом в маленьком ящичке, оставленном у моей двери; на крышке ящичка было написано мое имя. Меня с первого же дня мучила мысль, как я должен поступить. В этот день я решил написать секретное письмо министру, изложить все обстоятельства дела, историю пациентов, к которым меня вызывали, и указать адрес дома, куда меня привезли. Я знал, что люди, близкие ко двору, пользуются неограниченной властью и что знатным людям все сходит с рук безнаказанно, и я не думал, что дело это будет предано гласности, но я решил сообщить все, что знаю, чтобы не мучиться угрызениями совести. Я никому ни словом не обмолвился об этой истории, даже жене, о чем тоже написал в письме. Я нимало не опасался за себя и не думал, что мне что-нибудь грозит, но я считал, что другим не следует знать то, чему я был свидетелем, ибо для них это может оказаться опасным.
В тот день я был очень занят и не успел закончить письмо. На другой день я встал раньше обычного и дописал его. Это был канун Нового года. Я только что отложил законченное письмо, когда мне доложили, что меня желает видеть какая-то дама…
Я с каждым днем слабею и уже почти не в силах писать. Холодно, темно, и такой страшный мрак в душе, словно я впадаю в какое-то оцепенение.
Дама была красивая, молодая, приветливая, но, по-видимому, очень хрупкого здоровья, и чем-то сильно потрясена. Она представилась мне как маркиза Сент-Эвремонд. Я вспомнил, что юноша, умерший у меня на руках, называл так старшего брата, вспомнил вензель, вышитый на шарфе, и, естественно, пришел к заключению, что я имел дело с ее супругом.
Память еще не изменяет мне, но я не могу записать подробно наш разговор. Мне кажется, за мной следят теперь более тщательно, и мне страшно, как бы меня не застали… Она, должно быть, о чем-то догадывалась и каким-то образом узнала о некоторых фактах этой ужасной истории, о том, что в этом участвовал ее муж, что меня вызывали к больной. Она не знала, что молодая женщина умерла. Страшно огорченная, она сказала мне, что надеялась с моей помощью выразить ей тайком свое женское сочувствие, поддержать ее; она жаждала отвратить гнев господень от этого дома, стяжавшего дурную славу и ненависть многих пострадавших от него.
По ее сведениям в семье осталась младшая сестра, и она всей душой стремилась помочь этой сестре. Я мог только подтвердить, что сестра существует, но больше я ничего не знал. Она надеялась узнать от меня имя и местопребывание сестры. Но я и до сего злополучного часа пребываю в полном неведении…
Последние клочки бумаги. Вчера у меня отобрали один листок со строгим предупреждением. Сегодня я должен дописать все.
Моя посетительница, добрая, отзывчивая молодая женщина, была очень несчастлива в своей супружеской жизни. Могла ли она быть счастливой с таким мужем? Деверь относился к ней недоверчиво и враждебно и восстанавливал против нее брата; она боялась его, боялась мужа. Когда я вышел проводить ее, я увидел в карете ее сына, хорошенького мальчика двух-трех лет.
— Ради него, доктор, — сказала она, со слезами показывая на ребенка, — я готова сделать все, что в моих силах, чтобы хоть немного искупить содеянное зло. Иначе страшно подумать, какое тяжкое наследство достанется на его долю. Меня гнетет предчувствие, что, если я не смогу ничем загладить преступление, искупить вину, ему когда-нибудь придется ответить за это. Все, что я могу считать своей личной собственностью, несколько драгоценных безделушек, — все это я завещаю ему с тем, чтобы он разыскал сестру и передал ей с добрыми пожеланиями от своей покойной матери, которая всей душой сочувствовала ее горю.
Она поцеловала мальчика и сказала, обнимая его:
— Это для твоего же блага, мой ненаглядный! Ты обещаешь маме выполнить ее волю, да, Шарль? — И малютка, не задумываясь, ответил: — Да, мама.
Я поцеловал ей руку; она взяла мальчика к себе на колени, обняла его, и они уехали. Я больше никогда не видел ее.
Я понимал, что она назвала мне имя своего мужа, полагая, что я уже знаю его, и я воздержался назвать его в своем письме. Запечатав пакет, я не решился доверить его посыльному и сам отнес куда следовало.
В тот же день вечером, — это был последний день старого года, — часов около девяти у крыльца раздался звонок, и какой-то человек в черном, сказав, что ему нужно меня видеть, незаметно последовал за моим молодым слугой Эрнестом Дефаржем наверх в комнаты. Когда слуга пришел доложить мне в гостиную, где я сидел с женой (я был женат на прелестной молоденькой англичанке), о моя бесценная возлюбленная жена! — мы увидели, что этот человек, которому слуга сказал подождать внизу, стоит позади него.