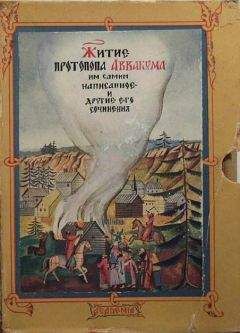Даниил Мордовцев - Державный плотник
– Да, переполнена чаша, через край льется...
Амвросий все ходил по келье, все поглядывал на Петра Могилу да на лик Спасителя.
– А что у вас в университете, отец-протоиерей? – спрашивает он, как бы думая о чем-то другом.
– Мерзость запустения, владыко. И там смерть царствует, в царстве науки.
– Нет лекций?
– Нету, владыко. И куратор бегу яся... Одни студенты. О! Богом благословенная младость!
– Что, отец-протоиерей? – И глаза Амвросия блеснули отблеском молодости, вспомнилась академия, лавра, Днепр, вечерние песни «улицы», откуда-то доносившиеся до лавры. И этот дорогой, не умирающий голос за лаврскою оградою:
Дадут мени сажень земли
Та четыре дошки.
Свышенники, диаконы
Повелят звонити —
Тоди об нас перестанут
Люди говорити...
Перестали говорить, да, правда. Люди не говорят, так память горькая не переставала... Амвросий опомнился.
– Что молодость, отец-протоиерей?
– Да я, владыко, говорю о наших студентах... Теперь вот университет закрыт, начальство разбежалось, а они сойдутся-сойдутся утром на дворе, толкуют там себе, галдят, об его превосходительстве Петре Дмитриевиче Еропкине с похвалою отзываются да о штаб-лекаре Граве. Да и то сказать, ваше преосвященство, чего требовать от графа, ветх он вельми, батюшка, в гробу обеими подагрическими ногами стоит. Так вот эта молодежь, говорю, погалдят-погалдят на дворе, а смотришь, и пошли по городу отыскивать больных да голодных, да ухаживают за ними, пекутся о них истинно с христианской любовью. Да ко мне и бегут, веселые такие иногда. «Отец-катехизатор! – говорят, – поставьте такому-то optime на экзамене, он-де пятерых от смерти отнял...» Ну и на сердце легче станет, взираючи на них.
Опять стучат сапожищи по передней келье, опять входит запорожец-служка.
– Ты что, хлопче?
– Отец-протоиерей приехали.
– Какой протоиерей?
– Не выговорю, владыко.
– Из Архангельского собора?
– Не скажу.
– Так какой же? – И Амвросий, и отец-катехизатор не могут удержаться от улыбки. – А? Какой?
– Русявенький такий.
– А! Протоиерей Левшинов... Проси.
Запорожец снова загрохотал чеботищами. Входит протоиерей Успенского собора и Святейшего правительствующего синода, конторы член, отец Александр, по фамилии Левшинов. Невысокая фигурка отдает ловкостью, юркостью. Серые глазки очень умны, очень кротки, когда смотрят в другие глаза, и немножко лукавы, когда смотрят кому в спину или читают Евангелие о мытаре...
– Все мои распоряжения, отец-протоиерей, исполнены по конторе Святейшего синода? – спрашивает Амвросий, благословляя гладко причесанную головку протоиерея. – Я ждал рапорта.
– Исполнены, ваше преосвященство.
– А «наставления» мои к пользе послужили?
– К пользе, владыко, несумнительно (глаза протоиерея убежали, куда-то убежали, должно быть, к Петру Могиле на портрет). Только не все тот бисер ценят по цене его...
– Да? Кто же?
– Свиньи, владыко, попирают бисер.
– Как же так, отец-протоиерей? – с удивлением спросил архиепископ.
– Молва в народе бывает, – сказал протоиерей как-то загадочно. – Читают наставления у церквей, а невегласи, подлая чернь, толкуют: «Попам-де не велят причащать нас святыми дарами», «Не велят-де младенцев крестить попам», «Вместо-де попов повитухи крестят и погружают в святую воду, а власов-де совсем не остригают и мирром не мажут».
Слушая отца Левшинова, Амвросий глубоко задумался... Он действительно сделал это спасительное распоряжение, ожидал от него пользы, спасения всего молодого поколения, да и духовенства от заразы. И что же из этого вышло? Ропот в народе, младенцев-де перестали крестить, к язычеству возвращаются. О! Какое страшное зло – неведение народа! – горько думалось опечаленному архиепископу.
В самом деле: спасительное «наставление» Амвросия, «данное священникам, каким образом около зараженных, больных и умерших поступать», и вывешенное при входах в церковных, породило в народе нелепые толки и послужило завязкой к страшной кровавой драме, которой никто не мог предвидеть, никто, кроме разве протоиерея Левшинова, который так хорошо знал старую Москву, Москву купеческую, сидельческую и народную, знал всю изнанку этой старой московской души...
* * *– Эй, паря! Что тамотка вычитывают? Али про мор?
– Нету, про попов, архиреев.
– Ой! Что так?
– Детей, слышь, чтобы напредки не кстили...
– Что ты? Видано ли!
– Повитух, чу, попами делают.
– Да что ж, братцы! Конец свету переставленье, что ли! Тут мор, а тут на поди!
– Да ты не ори! Гашник лопнет.
– Да я не ору! Дьявол!
– Лапти в рот суешь. А ты слухай! Эй, Микиташка, братенок! Катай сызначала, вычитывай всю дочиста, до нутревь... Ну! Ежели-де случится, звони по верхам! Лупи, чтобы всем слышно было.
И Микиташка, приподнявшись на цыпочках на церковном крыльце и водя заскорузлым пальцем по строкам, «звонит по верхам», «лупит», читает «наставленье» Амвросиево:
– «Ежели случится беда в опасном доме и будет больной требовать для исповеди отца духовного, то онаго и живущих с ним людей исповедовать с такою предосторожностью, чтобы не только до больного, но и до платья и прочего при нем находящегося не прикасаться, а ежели крайне будет опасно для священника, то оному сквозь двери или чрез окошко больного исповедовать, стоя одаль, а причащать святыми дарами таковых сумнительных и опасных людей, убегая прикосновения, чтобы не заразить себя, удержаться»...
– Удержаться! Слышь ты, не причащать-де!
– Что ты: али и впрямь, паря?
– Верно, бумага не врет, напечатано.
– А исповедовать, слышь, через окно али бо через дверь...
– Да это конец света, робятушки!
– Ох, горюшко наше, матыньки! И на духу-то не быть перед света переставленьем...
Бабы в голос воют. Парни в волосы друг другу вцепились из-за диспута о том, как исповедовать велят, в дверь или через окно. «В дверь!» – «В окно!» – «Врешь!» – Бац, трах-тарарах, и пошел ученый диспут на волосах.
– А ты ин вычитывай, Микиташа, о повитухах-то что пишут?
– Читай, отец родной... А вы, бабы, ближе, тут про вас писано.
– Ох, матушки! Умру со страху, коли обо мне. Ой-ой!
– А ты не вой, тетка, загодя. Сади далей, Микиташа!
И Микиташа «садит» далее:
«Ежели случится в опасном доме новорожденному быть младенцу, онаго велеть повивальнице из опасной горницы вынесть в другую и при крещении велеть оной же погружение учинить, а самому священнику, проговоря форму крещения, окончить по требнику положенное чинопоследование, острижением же власов и святым миропомазанием, за явною опасностью, удержаться».
– Слышь ты! Опять, чу, «удержаться». Не ксти робят!
– Повитуха, чу, окунает в купель... Слышь, тетка?
– Ох, батюшки, как же это!
– А власы – ни-ни! Не замай, ребенка не стриги и мирром не мажь, – поясняет толкователь из раскольников. – Сущие языцы! Ишь, до чего дожили православные! А кто виной?
– Кто, батюшка?
– Лжеархиерей-еретик, новый Никонишка.
– А ты чти, Микита, чти до конца, на нет!
– «Ежели случится в таком опасном или сумнительном же доме мертвое тело, то над оным, не отпевая...»
– Кормилицы, не отпевать! Касатики!
– Цыц! Не вой!
Баба умолкает.
– «Не отпевая и не внося в церковь...»
– Ох, смерть моя!
– Не вой, сказано тебе! Ушибу! – Баба молча хлюпает.
– «...и не внося в церковь,– продолжает Микита, – велеть отвезти для погребения в определенное место того же самого дня».
– Ни отпевать, чу, ни в церковь не вносить, слышишь!
– Да что же мы, собаки, что ли, что нас и в церковь не пущать, братцы?
– Али церковь – кабак? Вон и кабаки запечатали, и бани запечатали, а теперь на! Уж и храмы Божьи печатают. Да что же это будет, православные?
– Али впрямь они шутят? Али на них и суда нету?
Где-то слышится барабанный бой, глухо так стучит барабан, зловеще... Это не марш, это что-то худшее...
– Чу, братцы! Барабан!
– Али набат? Где же пожар, православные?
– Али сполох? Что же не звонят? Братцы! На колокольню!
– Стой! Надыть узнать, какой сполох.
А барабан все ближе к церкви, к толпе. Виднеется конный, машет белым платком, вздетым на обнаженную саблю.
Толпа обступает офицера и барабанщика. Офицер делает знаки, барабан умолкает. Толпа ждет: это уже не прежняя овцевидная толпа. У этой толпы злые глаза.
– Долой шапки! – кричит офицер.
– Что шапки! Нам не жарко-ста! Не пили.
– Долой, мерзавцы! Царский указ читать буду.
– Указ! Указ! Долой, братцы, шапки!
Шапки снимаются.
Офицер развернул бумагу и стал читать громко, медленно:
– «Указ ея императорского величества, самодержицы всероссийской, из правительствующего сената, объявляется всем в Москве жительствующим. Известно ея императорскому величеству стало, что некоторые обыватели в Москве, избегая докторских осмотров, не только утаивают больных в своих жительствах, но и умерших потом выкидывают в публичные места. А понеже такое злостное неповиновение навлекает на все общество наибедственнейшие опасности, того для ея императорское величество повелевает отчески, по именному своему указу, строжайшим образом обнародовать во всем городе, чтоб отныне никто больше не дерзал на такое злостное и вредное ея императорского величества законов и уставлений похищение. А есть ли, не взирая на сие строгое подтверждение, кто в таком преступлении будет открыт и изобличен, или же хотя и в сведении об оном доказан, таковой без всякого монаршего ея императорского величества милосердия отдается вечно в каторжную работу».