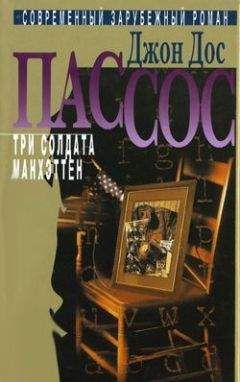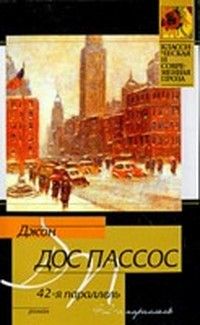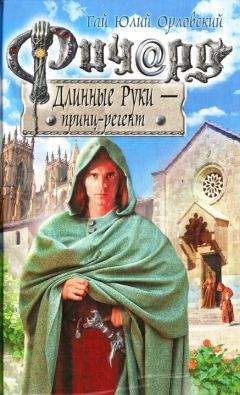Джон Пассос - Три солдата
Эти мысли скользили у него в голове, пока он пил кофе и ел сухой хлеб (это был весь его завтрак); а потом, бродя взад и вперед по берегу реки, он чувствовал, что его ум и тело как бы расплавляются и, изгибаясь и дрожа, склоняются перед напором музыкальных волн в нем, как тополя склоняются под ветром. Он очинил карандаш и снова поднялся в свою комнату.
Небо в этот день было безоблачно. Когда он сел за свой стол, голубой – четырехугольник в окне, и холмы, увенчанные ветряными мельницами, и серебристо-голубая поверхность реки – все это было постоянно перед его глазами. Временами он быстро записывал ноты, не чувствуя ничего, не думая ни о чем, не видя ничего; по временам он подолгу сидел, глядя на небо и на ветряные мельницы с каким-то смутным ощущением счастья, забавляясь игрой неожиданных мыслей, которые приходили и исчезали, подобно ночным бабочкам, влетающим в окно, чтобы, побившись о потолок, наконец исчезнуть не зная куда.
Когда часы пробили двенадцать, он почувствовал, что очень голоден. В течение двух дней он не ел ничего, кроме хлеба, сосисок и сыру. Найдя госпожу Бонкур внизу, за стойкой, вытирающей стаканы, он заказал ей обед. Она принесла ему сразу тушеное мясо и бутылку вина и, встав около него подбоченясь и показывая ямочки на толстых, красных щеках, наблюдала, как он ел.
– Месье ест меньше, чем все молодые люди, которых я когда-либо видела, – сказала она.
– Я усиленно работаю, – сказал Эндрюс, вспыхнув.
– Но, если вы работаете, вы должны много кушать, очень много.
– А если денег мало? – спросил Эндрюс, улыбаясь.
Что-то, мелькнувшее на минуту в ее жестоком, проницательном взгляде, испугало его.
– Здесь немного народу, месье, но вы увидите, что будет в базарный день… Месье угодно что-нибудь на десерт?
– Сыр и кофе.
– Больше ничего? Теперь сезон земляники.
– Больше ничего, благодарю вас.
Вернувшись и принеся сыр, госпожа Бонкур сказала:
– У меня раз были здесь американцы, месье. Хорошее было времечко, нечего сказать. Они были дезертиры. Они ушли, ничего не заплатив, в сопровождении жандармов. Я надеюсь, что их поймали и послали на фронт, этих бездельников.
– Всякие бывают американцы, – сказал Эндрюс глухим голосом; он злился на себя за то, что у него так сильно билось сердце. – Ну, я пойду пройтись. До свиданья!
– Месье идет погулять? Желаю много удовольствия, месье. До свиданья, мсье! – Монотонный голос госпожи Бонкур несся ему вслед.
Немного раньше четырех Эндрюс постучался к Родам. Он слышал, как внутри лаял Санто, маленький черный с каштановым терьер. Госпожа Род сама отперла ему дверь.
– А, это вы? – сказала она. – Заходите, будем пить чай. Хорошо шла сегодня работа?
– А Женевьева? – пробормотал Эндрюс.
– Она уехала кататься на автомобиле со знакомыми… Она оставила вам записку. Вон там, на чайном столе!
Он поддерживал разговор, задавал вопросы, отвечал, клал в рот куски кекса и делал все это в каком-то густом тумане.
«Жан! Я думала о том, каким образом помочь вам. Вы должны уехать в нейтральное государство. Почему вы не поговорили сначала со мной, прежде чем отрезать себе все пути к возвращению? Я буду дома завтра в это же время. Ваша Ж. Р.».
– Вас не побеспокоит, если я поиграю несколько минут на рояле, мадам Род? – вдруг спросил Эндрюс.
– Нет, пожалуйста. Мы придем потом и будем вас слушать.
Только выйдя из комнаты, он сообразил, что разговаривал не только с мадам Род, но и с двумя кузинами.
За роялем он забыл обо всем, и к нему снова вернулось настроение, полное какой-то смутной радости. Он нашел в кармане бумагу и карандаш и стал играть ту тему, которая пришла ему в голову, когда он мыл окна, стоя наверху складной лестницы в учебном лагере. Он аранжировал ее, формулировал, забыв обо всем, погруженный в ритмы и каденции.
Когда он кончил работать, было почти темно. Женевьева Род, с головой, окутанной вуалью, стояла у итальянского окна, выходящего в сад.
– Я слушаю вас, – сказала она. – Продолжайте!
– Я кончил. Как покатались?
– Я люблю автомобили. Нечасто выпадает случай покататься.
– Нечасто также выпадает на мою долю случай поговорить с вами наедине! – воскликнул с горечью Эндрюс.
– Вы, кажется, думаете, что имеете право собственности на меня? Я ненавижу это, никто не имеет прав на меня!
Она говорила так, как будто не первый раз повторяла про себя эту фразу.
Он встал со своего места и, подойдя к окну, облокотился на него рядом с Женевьевой.
– Разве вы изменили свое отношение ко мне, Женевьева, узнав, что я стал дезертиром?
– Нет, конечно, нет, – поспешила она ответить.
– Я думаю, что да, Женевьева. Что вы хотите, чтобы я сделал? Не думаете ли вы, что я должен сдаться? Один человек, которого я знал в Париже, сдался, но он не снимал формы. По-видимому, это меняет дело. Он был славный малый. Его звали Эл, он был из Сан-Франциско. У него были сильные нервы – он сам отрезал себе мизинец, когда его рука была раздроблена товарным вагоном.
– О нет, нет! О, это так ужасно! А вы будете великим композитором, я в этом уверена!
– В самом деле, буду? Та вещь, над которой я работаю сейчас, лучше всех тех мелочей, которые я писал до сих пор, – я это знаю.
– О да, но вам нужно будет учиться, чтобы стать известным.
– Если я смогу продержаться шесть месяцев – я спасен. Армия уйдет. Я не верю, что они будут выдавать дезертиров.
– Да, но позор этого… И эта опасность быть пойманным в течение всего этого времени…
– Я стыжусь многих поступков в своей жизни, Женевьева, но этим я скорее горжусь.
– Но разве вы не можете понять, что другие люди не разделяют ваших представлений о свободе личности?
– Мне нужно идти, Женевьева.
– Вы должны скоро прийти опять.
– На днях…
Когда он вышел на дорогу с пачкой измятой нотной бумаги в руке, были уже сумерки. Дул ветер. Небо было покрыто красными облаками, предвестниками бури; между ними были промежутки светло-красного и опалового цвета. Несколько капель дождя упали вместе с ветром, шелестевшим в широких листьях лип и поднявшим волны в полях пшеницы, как на море; река казалась совсем черной среди розоватых песчаных берегов. Начал накрапывать дождь. Эндрюс скорым шагом шел домой, чтобы не замочить свой единственный костюм. Придя к себе в комнату, он зажег четыре свечи и поставил их по углам стола. Слабый красноватый свет заката проникал еще в комнату сквозь сетку дождя, и от этого пламя свечей казалось каким-то призрачным. Потом он сел на кровать и, глядя на колеблющееся отражение света в потолке, пытался размышлять.
– Ну, ты теперь один, Джон Эндрюс, – сказал он вслух после получасового размышления и весело вскочил на ноги.
Он потянулся и зевнул. Дождь бил в окно долго и упорно.
– Сделаем маленький подсчет, – сказал он самому себе. – Я уже истратил двадцать франков на еду. Так не может продолжаться. Теперь в моем распоряжении том Виллона, книга о контрапункте в зеленом переплете, карта Франции, разорванная пополам, и средний, хорошо вооруженный знаниями, ум.
Он положил обе книги перед собой на середину стола, поверх беспорядочной груды нот и нотной бумаги. Потом продолжал нагромождать свое имущество в том порядке, в каком оно приходило ему на память. Два карандаша, автоматическое перо. Бессознательно схватился за часы, но вспомнил, что отдал их Элу, чтобы тот заложил их на случай, если он не решится отдаться в руки властей и будет нуждаться в деньгах. Зубная щетка. Прибор для бритья. Кусок мыла. Головная щетка и сломанная гребенка. Еще что? Он пощупал в сумке, висевшей в ногах кровати. Коробка спичек. Перочинный нож с недостающим лезвием и начатая папироса. Веселость все возрастала в нём с минуты на минуту, когда он созерцал всю эту кучу. Потом он вспомнил, что в комоде лежат еще чистая рубашка и две пары грязных носков. И это было все, абсолютно. Ничего, что можно было бы продать, за исключением револьвера Женевьевы. Он вынул его из кармана. Блестящая сталь сверкнула под пламенем свечи. Нет, он ему может понадобиться. Это слишком ценная вещь, чтобы ее продавать.
Он направил дуло на себя. Под подбородок, говорят, самое лучшее место. Он подумал, сможет ли нажать собачку, когда дуло будет направлено на его подбородок. Нет, когда его деньги выйдут, он продаст револьвер. Это дорогой способ лишения себя жизни для умирающего от голода человека. Он сел на край постели и засмеялся.
Потом он сделал открытие, что ему очень хочется есть. «Два обеда в один день, возмутительно!» – сказал он самому себе. Весело насвистывая, как школьник, он сошел вниз по шаткой лестнице, чтобы заказать госпоже Бонкур обед.
Со страшным испугом он заметил, что мотив, который он насвистывал, был опять тот же:
Джона Брауна тело уж тлеет в могиле,
А душа поднимается ввысь.
Липы уже были в цвету. От дерева, стоявшего за домом, в окно доносилась струя аромата, тяжелого, как фимиам. Эндрюс лежал на столе с закрытыми глазами, зарывшись лицом в кучу нотной бумаги. Он был очень утомлен. Первые такты «Души и тела Джона Брауна» были уже занесены на бумагу. Деревенские часы пробили два. Он встал на ноги и с минуту стоял, глядя в окно отсутствующим взглядом. Над рекой низко висели пухлые тучи. День был душный. Мельница на вершине холма стояла без движения. Ему казалось, что он слышал голос Женевьевы в последний раз очень давно. «Вы были бы великим композитором…» Он подошел к столу и перевернул несколько листов, не глядя на них. «Были бы…» Он пожал плечами. Значит, вы не можете быть в одно и то же время великим композитором и дезертиром. Возможно, что Женевьева права. Но он должен что-нибудь съесть.