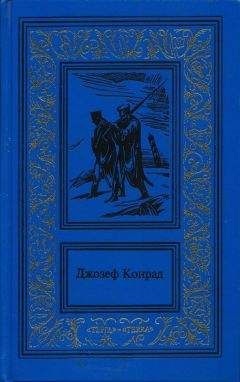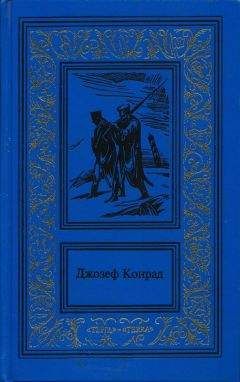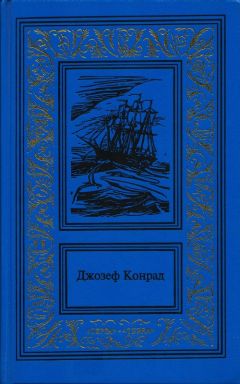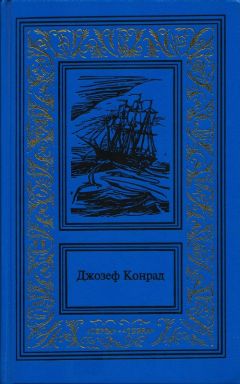Джозеф Конрад - Ностромо
Он вспоминал священника по ночам, видел иногда его во сне. В такие ночи доктор зажигал свечу и ждал рассвета, расхаживая по своим комнаткам, крепко обхватив себя руками и уставившись неподвижным взглядом на босые ноги. Ему мерещился отец Берон во главе длинного черного стола, а дальше головы, плечи, эполеты членов комиссии, они пощипывают перья и слушают, брезгливо и презрительно, заверения очередного узника, призывающего небеса в свидетели своей невиновности, пока наконец, выйдя из себя, капеллан не воскликнет: «Что толку слушать этот жалкий вздор! С вашего позволения я удалюсь с ним на время». И тогда двое солдат выводят арестованного из комнаты, а следом за ними идет отец Берон. Это случалось много раз, на протяжении многих дней, случалось со многими заключенными. По возвращении узник был готов чистосердечно во всем признаться, как сообщал отец Берон, и его взгляд при этом становился тупым и сытым, как у обжоры после обильной трапезы.
Для удовлетворения инквизиторских наклонностей священника имелся достаточно полный ассортимент необходимых средств. На протяжении всей мировой истории человек неизменно был хорошо осведомлен о том, как причинить душевные и физические страдания себе подобным. Люди обучались этому по мере того, как их страсти делались все сложнее, а изобретательность все изощреннее. Впрочем, можно смело утверждать, что первобытный человек не ломал себе голову над изобретением пыток. Он был ленив и чист сердцем. Когда ему случалось раздробить соседу каменным топором череп, он делал это, не питая к нему зла, а просто потому, что это было ему нужно.
Но время шло, и оказалось, что даже очень глупый человек способен придумать нечто подлое и лживое и заклеймить клеветой невиновного. Бечевка и шомпол; несколько мушкетов и кусок ремня; и даже простой молоток из твердого дерева, если бить с размаху по пальцам и суставам, может явиться орудием самой изощренной пытки. Доктор был на редкость упрямым арестантом, и естественным последствием его «дурного нрава» (как выражался отец Берон) явилось то, что для того, чтобы сделать его послушным, пришлось применить самые жестокие меры, и применить их все полностью. Отсюда хромота, кривые плечи и шрамы на щеках. Но зато и в своих винах, — когда он их наконец признал, — он признался полностью. Случалось, в бессонные ночи на рудниках Сан Томе он вдруг переставал метаться по комнатам и останавливался, скрипнув зубами от гнева и стыда, потрясенный тем, как буйно разыгралось его воображение под воздействием физической боли, когда эта боль достигла такой силы, что самоуважение, истина, честь и даже жизнь потеряли всякое значение.
И он не мог забыть отца Берона и этот бесконечно повторявшийся вопрос: «Ну, призна́ешься ты, наконец?» — смысл этих слов был так мучительно ясен, хотя разум его мутился от боли. Не мог забыть. Но страшнее было другое. Если бы доктор Монигэм даже сейчас случайно встретил бы на улице отца Берона, его объял бы в точности такой же ужас, как много лет тому назад. Эта опасность ему уже не угрожала. Отец Берон скончался; но доктор Монигэм ведь знал о себе это и никому не мог взглянуть в глаза.
Можно сказать, что доктор Монигэм попал в рабство к призраку. Разве мог он вернуться в Европу, помня об отце Вероне? Делая признание комиссии, доктор Монигэм не помышлял избавиться таким образом от смерти. Он хотел умереть. Сидя в своей камере полураздетый на сырой земле, совершенно неподвижно, долгими часами, так, что пауки, его приятели, успевали оплести его всклокоченные волосы паутиной, он успокаивал свою изболевшуюся душу вполне, казалось бы, разумным доводом: ведь он сознался в таком множестве преступлений, что его должны приговорить к смертной казни… его мучители зашли так далеко, что не оставят его в живых.
Но удивительной оказалась жестокость судьбы — шел месяц за месяцем, а доктор Монигэм гнил заживо в своей темной, как могила, камере. Без сомнения, его тюремщики надеялись, что он умрет своею смертью и избавит их от необходимости его казнить; однако доктор Монигэм обладал железным здоровьем. Умер Гусман Бенто, и не от кинжала заговорщика, а от апоплексического удара, и доктора Монигэма поспешили освободить.
Оковы сбили при свете свечи, и у доктора, просидевшего много месяцев в глубокой темноте, так заболели глаза, что он прикрыл их руками. Ему помогли встать. Сердце бешено колотилось в его груди — доктор боялся свободы. Он сделал несколько шагов, привыкшие к кандалам ноги двигались так легко, что у него закружилась голова, и он упал. Ему дали две палки и вывели из коридора. Стояли сумерки; в офицерских казармах близ замка уже зажигали свечи; но темнеющее вечернее небо показалось ему ослепительным. На худых, костлявых плечах доктора висело обтрепавшееся пончо; изодранные брюки прикрывали его ноги только до колен; грязные, спутанные седые космы, не стриженные полтора года, обрамляли исхудавшее, с острыми скулами лицо. Когда он выходил из замка, караульный, движимый каким-то безотчетным порывом, внезапно подскочил к нему со сдавленным смешком и нахлобучил ему на голову старую продавленную соломенную шляпу. Доктор Монигэм чуть не упал от неожиданности, затем продолжил свой путь. Он сперва выбрасывал вперед одну палку, затем подтягивал к ней искалеченную ногу, затем другую палку; вторую ногу он волок с еще большим трудом — казалось, она слишком тяжела, а между тем обе его ноги были на вид не толще, чем палки, которые он стискивал в руках. Его согбенное тело колотила не прекращающаяся ни на минуту дрожь, сотрясавшая тощие руки и ноги, костлявую голову, рваное сомбреро, широкие поля которого лежали у доктора на плечах.
В таком виде и в таком одеянии доктор Монигэм обрел свободу. И это обстоятельство так прочно привязало его к Костагуане и способствовало, так сказать, его натурализации, как не смог бы способствовать ей никакой успех и никакие почести. Он перестал быть европейцем; доктор Монигэм сотворил себе из своего бесчестья кумир. Такой образ действий представлялся ему единственно возможным для джентльмена и офицера. До отъезда в Костагуану доктор Монигэм был хирургом в одном из пехотных полков Ее Величества.
Размышляя, как ему теперь жить, он не принимал в расчет смягчающих обстоятельств. Этот образ действий вовсе не был глуп; он был прост. Поведение человека, убежденного, что каждая его вина требует самого сурового искупления, всегда отличается простотой. Доктор Монигэм считал, что заслуживает суровой кары; считать иначе он не мог, — вполне естественное чувство вины, стократно усугубленное свойственными джентльмену и офицеру представлениями о чести, побуждало его думать и чувствовать именно так. Не говоря уже о том, что и благородная натура доктора требовала полного, всеобъемлющего и постоянного искупления.
Преданность и верность были среди главных ее черт. Всю свою преданность и верность доктор предоставил в распоряжение миссис Гулд. Он считал ее достойной их. В глубине души у него шевелилась тревожная неприязнь к рудникам Сан Томе, поскольку с каждым днем они все больше нарушали душевное спокойствие миссис Гулд. Как мог Чарлз привезти ее сюда! Это преступление! Доктор наблюдал за ходом событий с угрюмой отчужденной сдержанностью, вполне естественной, — он полагал, — для человека, пережившего все, что он пережил. Преданность миссис Гулд, однако, влекла за собой заботы о безопасности ее мужа. Доктор не верил в Чарлза, вот почему он приложил все усилия, чтобы оказаться в городе в критический момент. Он считал, что управляющий рудниками неизлечимо заражен безумием костагуанских революций. И поэтому он с такой горечью и раздражением восклицал: «Декуд, Декуд!» — ковыляя по гостиной Каса Гулд.
Миссис Гулд, стоя с разгоревшимися щеками и сверкающими глазами, глядела прямо перед собой, потрясенная внезапностью свалившегося на них страшного несчастья. Она опиралась на низенький столик, и рука ее дрожала, вся от кисти до плеча. Свет солнца, которое поздно заглядывает в Сулако, появляясь высоко в небе уже во всей полноте своей силы из-за сверкающей снежной вершины Игуэроты, развеял нежный, бархатистый, жемчужно-серый полумрак, окутывавший город в утренние часы, разбив его на густые черные тени и ослепительные яркие блики. Потоки солнечного света заливали гостиную, врываясь в нее сквозь три высоких окна; и по контрасту особенно темным казался дом Авельяносов, стоявший еще в тени.
— Что случилось с Декудом? — спросил с порога мужской голос.
Это был Чарлз. Они не слышали, как он вошел. Он бросил беглый взгляд на жену и в упор посмотрел на доктора.
— У вас какие-то новости, доктор?
Доктор торопливо выложил все, что знал. Потом замолк, и управляющий рудниками Сан Томе долго глядел на него, не произнося ни слова. Миссис Гулд опустилась в низкое кресло и положила руки на колени. Все трое не шевелились, в комнате царила тишина. Затем Чарлз сказал: