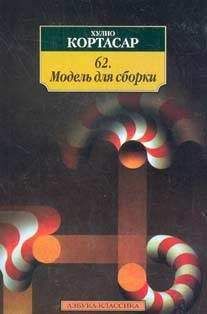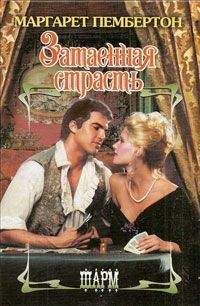Хулио Кортасар - Игра в классики
Если бы я писал такую книгу, стандартные формы поведения (включая самые необычные, позволим себе и такую роскошь) невозможно было бы объяснить при помощи обычного психологического инструментария. Действующие лица выглядели бы больными или попросту идиотами. Дело не в том, что они оказались бы неспособными к обычным challenge and response [229]: любви, ревности, состраданию со всеми вытекающими из этого последствиями, а просто в них то, что homo sapiens хранит в сублиминальной области, с трудом пробивало бы себе путь, как если бы третий глаз [230] стал напряженно смотреть из-под лобовой кости. И все обернулось бы беспокойством, тревогой, непрерывным искоренением, Другими словами, на этой территории психологическая случайность отступила бы в замешательстве и марионетки раздирали бы, любили бы или узнавали бы друг друга, не подозревая даже, что жизнь пытается изменить ключ — в них, посредством них и ради них — и что в человеке зарождается, пока еще едва различимая, новая попытка, как в иные времена зародились в нем ключ-разум, ключ-чувство, ключ-прагматизм. И что человек есть не что иное, как то, чем он хочет быть, чем намеревается быть, барахтаясь в словах, в поступках, в забрызганной кровью радости и в прочем тому подобном».
(—23)
63
— Не дергайся, — сказала Талита. — Я же тебе холодный компресс ставлю, а не известь негашеную прикладываю.
— Как током бьет, — сказал Оливейра.
— Не говори глупости.
— И в глазах чего только не мелькает, как в фильмах Нормана Мак-Ларена.
— Подними-ка немного голову, подушка очень маленькая, я дам тебе другую.
— Оставь подушку, дай лучше другую голову, — сказал Оливейра. — Хирургия у нас еще из пеленок не вышла, надо признать.
(—88)
64
Однажды, когда они, по обычаю, встретились в Латинском квартале, Пола стояла и смотрела на асфальт, и уйма народу тоже смотрела на асфальт. Пришлось остановиться и тоже осмотреть портрет Наполеона в профиль, рядом великолепное изображение Шартрского собора, а чуть поодаль — кобылицу с жеребенком на зеленом лугу. Авторами рисунков были двое светловолосых парней и молоденькая девушка индокитайского облика. Ящик из-под мелков был полон монет по десять и двадцать франков. Время от времени один из художников наклонялся и добавлял штрих на рисунке, и тотчас же заметно возрастали пожертвования.
— Взяли на вооружение систему Пенелопы, с одной разницей — не распускают все до конца, — сказал Оливейра. — Вот эта сеньора, например, и не думала лезть в карман, пока крошка Цонг-Цонг не бросилась на землю подрисовывать свою голубоглазую блондинку. Ясно как день — их возбуждает процесс работы.
— Ее зовут Цонг-Цонг? — спросила Пола.
— Понятия не имею. Щиколотки у нее красивые.
— Столько труда, а ночью придут дворники — и всему конец.
— В этом-то и вся прелесть. Цветные мелки как эсхатологический образ, чем не тема для диссертации? А если муниципальные уборщицы к утру не покончат со всем этим, то Цонг-Цонг сама придет с ведром воды. По-настоящему кончается только то, что заново начинается каждое утро. Люди бросают монетки и не догадываются, что их обманывают, потому что на самом деле эти рисунки не стираются. Они возникают на другом тротуаре или в другом цвете, но рука-то уже набита, и другими будут только мелки, а все движения и штрихи те же самые. Строго говоря, если один из ребят все утро будет водить руками в воздухе, он точно так же заслужит свои десять франков, как если бы нарисовал Наполеона на асфальте. Но нам нужны доказательства. И вот они. Брось им десять франков, не жадничай.
— Я уже бросила, до твоего прихода.
— Замечательно. По сути дела, эти монетки мы вкладываем в рот умершим, все тот же искупительный обол. Воздаем почести эфемерному, чтобы этот собор был всего лишь рисунком мелками, который струя воды смоет мгновенно. Монету в ящик — и собор завтра возродится снова. Мы платим за бессмертие, платим за то, чтобы удержать мгновение. No money, no cathedral [231]. A ты сама не мелками нарисована?
Но Пола не ответила; он положил ей руку на плечи, и они сначала прошлись вниз по Буль-Мишу и вверх по Буль-Мишу, а потом медленно направились к улице Дофин. Мир, нарисованный цветными мелками, крутился вокруг и втягивал их в свою пляску: жареный картофель — желтыми мелками, вино — красными, бледное, нежное небо — небесно-голубыми с прозеленью там, над рекою. Еще раз бросить монетку в ящичек из-под сигар, чтобы удержать, не дать исчезнуть собору, вернее, обречь его на исчезновение лишь с тем, чтобы он потом вернулся вновь, и исчез под струей воды, и снова — штрих за штрихом, черный мелок, синий, желтый — возвратился бы сюда. Улица Дофин — серыми мелками, лестница — густо-черными; комната с ее ускользающими очертаниями хитро вычерчена зелеными; шторы — белыми; на постели пончо — всеми цветами радуги — да здравствует Мексика; любовь — мелками, жаждущими фиксатора, который закрепил бы ее в непрочном сегодняшнем мгновении, любовь выписана душистыми мелками, губы — оранжевыми, тоска и пресыщение — бесцветными мелками, кружащимися в неуловимой пыльце, что оседает на спящие лица, на тела, подобные спрессованному тоской мелу.
— Ты чего ни коснешься — все распадается, даже если просто посмотришь, — сказала Пола. — Ты — будто страшная кислота, я тебя боюсь.
— Слишком близко принимаешь к сердцу некоторые метафоры.
— Дело не в словах, а в самом взгляде на вещи… Не знаю, как объяснить, но ты — словно засасывающая воронка. Порой у меня такое чувство, будто я вот-вот выскользну из твоих рук и упаду в колодец. А это еще хуже, чем во сне падать в пустоту.
— Может быть, — сказал Оливейра, — ты еще не совсем пропала.
— О, пожалуйста, не мучай меня. Пойми, я знаю, как мне жить. Живу как живется, и мне хорошо. Здесь, среди моих вещей и с моими друзьями.
— Перечисли, перечисли. Привяжи себя к названиям — и тогда не упадешь. Вот он — стол, нераздвинутая штора на окне, Клодетт идет под тем же номером, Дантон — 34 или какой он там, и твоя мама, которая пишет тебе письма из Экс-ан-Прованса. Все в порядке.
— Я боюсь тебя, латиноамериканское чудовище, — сказала Пола, прижимаясь к нему. — Мы же договорились, в моем доме не говорить о…
— О разноцветных мелках.
— Обо всем этом.
Оливейра закурил «Голуаз» и посмотрел на сложенную вдвое бумажку на ночном столике.
— Направление на анализы?
— Да, хотят, чтобы я сделала срочно. Потрогай вот здесь, хуже, чем неделю назад.
Почти совсем стемнело, и Пола казалась моделью Боннара, раскинувшейся на постели, последний свет из окна ложился на нее желтовато-зеленым отсветом.
«Зарю-подметальщицу бы сюда, — думал Оливейра, наклоняясь и целуя ее в грудь, в то самое место, на которое она только что указывала нетвердым пальцем. — Но они на четвертый этаж не поднимаются, не слыхал я, чтобы подметальщицы или поливальщицы лазали на четвертый этаж. Разве только завтра придет художник и в точности повторит рисунок, эту нежную выпуклость, на которой что-то…». Он заставил себя не думать, и ему удалось на миг поцеловать ее так, чтобы был только поцелуй — и ничего больше.
(—155)
65
Образец карточки для клубной картотеки
Грегоровиус, Осип.
Без родины.
Видимая сторона луны (противоположная сторона, в те, доспутниковые, времена еще скрыта от глаз): кратеры? моря? прах?
Имеет склонность одеваться в черное, серое, темное. Никогда не видели его в костюме. Некоторые утверждают, что у него их три, но на нем всегда пиджак от одного, а брюки — от другого. Убедиться в этом нетрудно. Возраст: говорит, что сорок восемь. Профессия: интеллигент. Двоюродная бабушка посылает ему скромное содержание.
Carte de séjour [232] AC 3456923 (временное, сроком на шесть месяцев. Продлевалось девять раз, каждый раз все с большими трудностями).
Место рождения: Боржок (метрическая запись, по-видимому, фальшивая, судя по заявлению, сделанному Грегоровиусом парижской полиции. Основания для этого предположения содержатся в полицейской картотеке).
Место рождения: в год его рождения Боржок входил в состав Австро-Венгерской империи. Венгерское происхождение очевидно. Однако с удовольствием дает понять, что он — чех.
Место рождения: по-видимому, Великобритания. Грегоровиус, вероятно, родился в Глазго, от отца-моряка и матери — сухопутной жительницы; вероятно, своим появлением на свет обязан вынужденной стоянке, торопливой разгрузке-погрузке, stout ale [233] и чрезвычайному пристрастию ко всему иностранному со стороны мисс Марджори Баббингтон, проживавшей в доме 22 по Стьюарт-стрит.
Грегоровиусу нравится излагать пикарескную предысторию своего рождения и порочить своих матерей (в общей сложности у него их три, если верить пьяным откровениям), приписывая им не в меру свободные нравы; герцогиня Магда Разенсвил, которая всегда появляется после виски или коньяка, была лесбиянкой и автором псевдонаучного трактата о carezza [234] (переведенного на четыре иностранных языка). Мисс Баббингтон, материализующаяся из паров джина, кончила свои дни проституткой на острове Мальта. По поводу третьей матери у Этьена, Рональда и Оливейры — свидетелей ее возникновения под действием божоле, коте-дю-рон или бургундского алиготе — никогда не было полной ясности. Иногда ее зовут Голль, а иногда Адголь или Минти, живет она то в Герцеговине, то в Неаполе, ездит в Соединенные Штаты с водевильной труппой, она — первая в Испании закурившая женщина, она продает фиалки у подъезда Венской оперы, она изобретает противозачаточные средства, и она же умерла от тифа и продолжает жить, хотя и ослепла, в Уэрте; в Царском Селе она сбежала с царевым шофером, в високосные годы она смущает душу своему сыну, а кроме того, практикует гидротерапию, состоит в подозрительных отношениях с одним священником из Понтуаза, умерла при появлении на свет Грегоровиуса, который, кроме всего прочего, является еще и сыном Сантос-Дюмона. Очевидцы заметили, что рассказы Грегоровиуса обо всех этих последовательных (или одновременных) ипостасях третьей матери почему-то всегда сопровождаются упоминанием Гурджиева, которого Грегоровиус поочередно то почитает, то презирает.