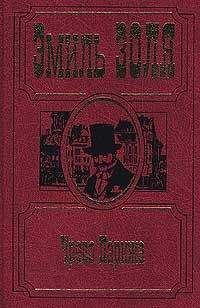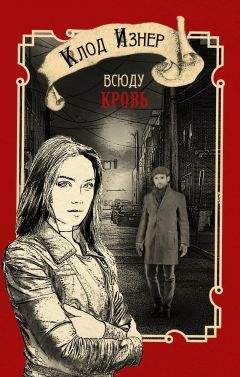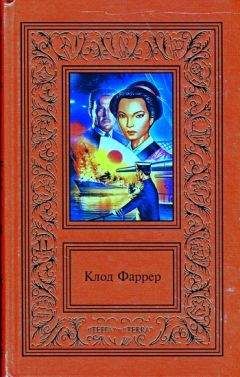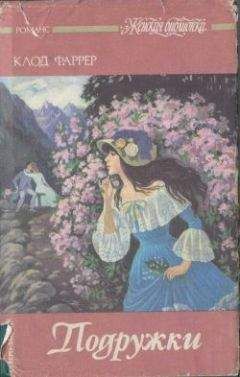Эмиль Золя - Творчество
И когда Анриетта решилась наконец подняться из-за стола, чтобы заставить гостей замолчать, шум их голосов внезапно покрыл голос Клода:
— Ах, ратуша! Если бы мне ее дали! Если бы я мог… Я всегда мечтал расписать стены Парижа!
Все вернулись в гостиную, где уже зажгли маленькую люстру и стенные канделябры. Здесь казалось почти холодно по сравнению с душной столовой, кофе на короткое время умиротворил гостей. Не ждали никого, кроме Фажероля. Салон Сандоза был очень замкнутый: супруги не вербовали в него литераторов, не старались при помощи приглашений заткнуть рты журналистам. У них никогда не музицировали, не прочли вслух ни строчки литературных новинок. Анриетта не любила общества, и муж говаривал, что ей нужно десять лет, чтобы полюбить кого-нибудь, но зато уж полюбить навсегда! У них было несколько настоящих друзей, уютный семейный угол. Разве не в этом счастье, и какое редкостное!
В этот вечер время тянулось долго, так как глухое раздражение не проходило. Дамы болтали у потухающего камина; когда лакей, убрав со стола, открыл двери в соседнюю комнату, мужчины ушли покурить и выпить пива, оставив дам одних.
Сандоз и Клод не курили. Они скоро вернулись и уселись рядышком на диван возле двери. Писатель, обрадованный, что его старый друг возбужден и болтает, стал вспоминать о Плассане в связи с новостью, которую услышал накануне: у Пуильо, прежде школьного балагура, а теперь солидного стряпчего, неприятности из-за того, что его поймали на месте преступления с двумя двенадцатилетними девчонками. Подумай, какая скотина! Но Клод уже не отвечал, он навострил уши, услышав, что в столовой упоминают его имя, и пытаясь разобрать, о чем говорят.
А там Жори, Магудо и Ганьер, все еще не излившие накопившейся в них желчи, оскалив зубы, продолжали «избиение». Сначала они говорили шепотом, но постепенно повысили голоса и наконец дошли до крика.
— Да ну его! Уступаю его вам, — говорил Жори о Фажероле. — Ему грош цена! Правда, он вас всех провел, и здорово провел, порвал с вами и добился успеха, выехав на вашей же спине! Но вы-то сами были не слишком догадливы!
Взбешенный Магудо ответил:
— Черт побери! Достаточно стать на сторону Клода, и тебя отовсюду выгонят!
— Всех нас погубил Клод, — категорически заявил Ганьер.
И, забыв про Фажероля, которого они упрекали за пресмыкательство перед прессой, за союз с их общими врагами, за связи с шестидесятилетними баронессами, они обрушились на Клода, оказавшегося вдруг козлом отпущения. Господи! В конце концов Фажероль был обыкновенной продажной девкой, каких немало среди художников и которые ловят клиентов прямо на улице, готовые продать и растерзать товарок по ремеслу, чтобы залучить к себе какого-нибудь буржуа. Но Клод, этот великий художник-неудачник, неспособный, несмотря на всю свою гордыню, нарисовать простую человеческую фигуру, — разве не он погубил их всех, увлекая несбыточными планами? Понятно, что успеха добился тот, кто с ним вовремя порвал. Если б только они могли начать сначала, они не валяли бы дурака и не гонялись бы за химерами. И они обвиняли Клода за то, что он их поработил и эксплуатировал, да, именно эксплуатировал, к тому же так неловко, так неумело, что и сам остался ни с чем!
— Взять хоть меня, ведь был какой-то момент, когда он и меня одурачил, — продолжал Магудо. — Стоит мне об этом подумать, и я перестаю сам себе верить, понять не могу, как это я оказался в его банде? Разве я на него похож? А? Что у меня с ним общего? Зло берет от того, что мы спохватились так поздно!
— А меня, — подхватил Ганьер, — меня он лишил оригинальности. Представляете, каково мне пятнадцать лет подряд слышать, как за моей спиной о каждой моей новой картине говорят: «Да ведь это Клод!» Ну нет, с меня довольно! Лучше я совсем брошу писать… Слов нет, пойми я это раньше, я вообще не имел бы с ним дела…
Все это напоминало бегство крыс с тонущего корабля; между людьми, которых годы юности соединили братской дружбой, рвались последние связи, и они с удивлением увидели, что чужды и враждебны друг другу. Жизнь разметала их в разные стороны, обозначились глубокие разногласия, а от их былых пламенных мечтаний, надежд на совместную борьбу и победу осталось лишь чувство горечи, еще увеличивавшее теперь их озлобление.
— Выходит, — зло засмеялся Жори, — что один только Фажероль не дал себя обобрать как дурак!
Задетый Магудо вспылил:
— Кому-кому смеяться, но не тебе, и ты хорош гусь!.. Не ты ли обещал помогать нам, когда у тебя будет собственная газета…
— Позволь, позволь…
Ганьер поддержал Магудо:
— Это верно! Теперь ты уже не станешь уверять, что у тебя вычеркивают все, что ты о нас пишешь, ты теперь сам себе хозяин. И никогда ни единого слова! Ты даже не обмолвился о нас в своем последнем отчете о Салоне.
Смущенный Жори залепетал было что-то, но вдруг и его прорвало:
— Да ведь и тут все дело в этом злосчастном Клоде! Я не намерен терять подписчиков, чтобы вам угодить. О вас нельзя писать, поймите же вы! Ты, Магудо, можешь из кожи лезть, делая милые безделушки, а ты, Ганьер, можешь и совсем не писать, — все равно у вас у обоих на спине клеймо, и вам десяти лет не хватит, чтобы его стереть, а есть и такие, кому не удастся отмыть клеймо и до самой смерти. Публика над ним потешается, это вам ясно… Только вы одни еще верите в гениальность этого помешанного, которого в один прекрасный день запрут в дом умалишенных.
И тут началось что-то невообразимое, все трое заговорили разом, осыпая друг друга чудовищными упреками, таким злобным тоном, так угрожающе скрежеща зубами, что казалось, они вот-вот вцепятся зубами друг в друга.
Сандоз, сидевший в углу дивана, поневоле оторвался от приятных воспоминаний и тоже стал прислушиваться к спору, доносившемуся через открытую дверь.
— Слышишь, как здорово они меня отделывают! — почти шепотом сказал Клод со страдальческой улыбкой. — Нет, нет, не ходи туда, я не хочу, чтобы ты зажимал им рот. Я заслужил это, ведь я неудачник.
И побледневший Сандоз продолжал слушать эти яростные вопли, исторгнутые борьбой за существование, злобные взаимные упреки, уносившие его мечту о вечной дружбе.
К счастью, Анриетта забеспокоилась, услышав возбужденные голоса. Она пошла к мужчинам и пристыдила их за то, что они покинули дам, чтобы ссориться! Курильщики вернулись в гостиную, тяжело дыша, в поту, еще не остывшие от приступа гнева. И так как, взглянув на часы, Анриетта заметила, что уже теперь Фажероль наверняка не придет, они, переглянувшись, снова принялись зубоскалить. Еще бы! Этот всегда держит нос по ветру: уж он-то не станет встречаться со старыми друзьями, которые могут повредить его карьере и которыми он гнушается.
И в самом деле, Фажероль не явился. Конец вечера был тягостным. Гости опять пошли в столовую, где был сервирован чай на русской скатерти с красной вышивкой, изображавшей охоту на оленей; под вновь зажженными свечами появилась бриошь, тарелки с пирожными и сластями — языческое изобилие ликеров, виски, джина, кюммеля, хиосского вина. Лакей принес еще и пуншу, и пока он хлопотал у стола, хозяйка доливала чайник из самовара, который кипел подле нее. Но ни уют, ни ласкающая глаз обстановка, ни тонкий аромат чая не смягчили сердец. Речь снова зашла об успехах одних и неудачах других. Подумать только, какой позор эти медали, кресты, все эти награды; полученные не по заслугам, они только принижают искусство! До каких пор нас будут считать школьниками? Вот откуда идет вся эта пошлая мазня: художники трусят и лебезят перед классными наставниками, чтобы заслужить хорошую отметку!
Когда гости снова оказались в гостиной и отчаявшийся Сандоз уже в глубине души пламенно мечтал, чтобы они разошлись, он вдруг заметил Матильду и Ганьера, которые сидели рядом на диване и томно беседовали о музыке в стороне от остальных, уже выдохшихся, переставших брызгать слюной и теперь еле раскрывавших рты. Матильда, эта старая разжиревшая потаскуха, распространявшая вокруг себя подозрительный аптечный запах, закатывала глаза и млела, словно кто-то ее нежно щекотал. Она встретилась с Ганьером в прошлое воскресенье на концерте в помещении цирка, и теперь они в отрывистых, туманных выражениях делились друг с другом своими восторгами:
— Ах, сударь, этот Мейербер! Его увертюра к «Струензе», похоронная тема, а потом крестьянский танец, такой волнующий, своеобразный, и снова тема смерти! И дуэт виолончелей… Ах, сударь, эти виолончели, виолончели!
— А Берлиоз, сударыня? И эта праздничная ария из «Ромео»? А соло кларнетов, «его любимых женщин», под аккомпанемент арф! Какое очарование, какая чистота! Празднество в разгаре — это же настоящий Веронезе, это пышное великолепие «Свадьбы в Канне Галилейской»; и потом вновь песнь любви, такая нежная, ах, какая нежная!.. И потом все громче, громче!
— А вы обратили внимание, сударь, в ла-мажорной симфонии Бетховена на погребальный звон, который все время повторяется и ударяет вас прямо по сердцу! Ах, я хорошо вижу, что вы чувствуете, как я… Когда слушаешь музыку, словно причащаешься! Бетховен, боже! Как грустно и как отрадно воспринимать его вдвоем и уноситься душой вдаль!