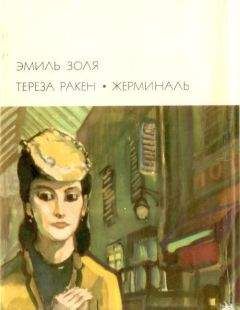Эмиль Золя - Жерминаль
— Бельгийцев! Они не посмеют этого сделать, сволочи!.. Пусть только попробуют нанять бельгийцев, мы тогда разрушим шахты!
Этьен смущенно стал объяснять, что им и двинуться нельзя, потому что солдаты, охраняющие шахты, будут защищать бельгийских рабочих. Маэ сжимал кулаки; его больше всего и бесило, что здесь торчали эти проклятые штыки. Значит, углекопы больше уже не хозяева у себя? С ними обращаются как с каторжниками, выгоняют на работу винтовкой! Маэ любил свою шахту, ему было тяжело, что он уже целых два месяца не спускался в нее. Поэтому-то он и возмущался при одной мысли о подобном оскорблении, о том, что туда впустят каких-то пришельцев. Затем он вспомнил, что ему уже вернули расчетную книжку, и у него сжалось сердце.
— Я и сам не знаю, чего я так сержусь, — пробормотал он. — Ведь я уже не состою больше в их заведении. Когда они выгонят меня отсюда, мне останется только околеть на большой дороге.
— Брось! — сказал Этьен. — Если ты захочешь, они возьмут тебя завтра же. Хороших работников не увольняют.
Он запнулся и с удивлением стал прислушиваться к тому, как Альзира тихо смеялась в лихорадочном бреду. До сих пор он различал только неподвижную фигуру деда Бессмертного, и веселый голос больного ребенка его испугал. Раз уже дошло до того, что умирают дети, — чаша переполнена. Он собрался с силами и проговорил дрожащим голосом:
— Послушай, так дальше продолжаться не может, мы погибнем… надо сдаваться.
Маэ, неподвижная и молчаливая до сих пор, вдруг вспыхнула и крикнула Этьену прямо в лицо, обращаясь к нему на «ты» и бранясь, как мужчина:
— Что такое ты говоришь?.. И это говоришь ты, черт тебя возьми!
Он хотел возразить ей, но она не дала ему сказать ни слова.
— Не повторяй этого, черт возьми! Да, даром, что я женщина, а надаю тебе пощечин… Значит, мы умирали с голоду целых два месяца, я продала свое имущество, мои дети заболели — и все для того, чтобы снова начались несправедливости?.. Да когда я только подумаю об этом, кровь стынет у меня в жилах! Нет, нет! Теперь я все сожгу, все уничтожу, но не сдамся!
Широким угрожающим жестом она указала в темноте на Маэ.
— Слушай, если мой муж вернется в шахту, я буду ждать его на дороге, плюну ему в лицо и обзову подлецом!
Этьен не видел ее, но он ощущал ее горячее дыхание, словно оно вырывалось из пасти зверя; и он невольно отступил, пораженный такой вспышкой, чувствуя, что это дело его рук. Маэ до такой степени изменилась, что Этьен просто не узнавал ее; раньше она была всегда такая рассудительная, упрекала его в жестокости, говорила, что не следует желать никому смерти; сейчас же она не слушает доводов рассудка и готова уничтожить все и всех. Теперь уже не Этьен, а она говорит о политике, хочет одним ударом смести всех буржуа, требует Республики и гильотины, чтобы освободить землю от этих богатых грабителей, которые нажились на труде бедняков.
— Да я своими руками растерзала бы их! Будет с нас! Теперь настал наш черед, ты сам это говорил… Когда я подумаю, что отец, дед, прадед еще до нас переносили все то, что мы терпим теперь, и что наши сыновья и внуки будут точно так же страдать, — я схожу с ума, я возьмусь за нож… Мы почти ничего не сделали тогда. Мы должны были к черту снести Монсу, не оставив камня на камне. А знаешь ли? Я теперь только об одном жалею: что не позволила старику задушить девицу из Пиолены… Ведь это они заставляют моих детей умирать с голоду.
Слова ее раздавались во мраке, словно удары топора. Горизонт сомкнулся и более не раскрывался; в больной мятежной голове идеал, ставший несбыточным, превратился в отраву.
— Вы плохо поняли меня, — сказал наконец Этьен: он уже бил отбой. — Надо бы прийти к соглашению с Компанией; я знаю, что шахты сильно пострадали, и, без сомнения, Компания пойдет на уступки.
— Нет, ни шагу назад! — взвыла она.
Тут вернулись Ленора и Анри; оба пришли с пустыми руками. Правда, какой-то господин дал им два су; но так как сестра всю дорогу награждала маленького брата пинками, деньги в конце концов упали в снег; они искали их вместе с Жанленом, но так и не нашли.
— А где же Жанлен?
— Он убежал, мама, он сказал, что у него дела.
Этьен слушал, и на сердце у него было тяжко. Когда-то она грозила убить их, если они протянут руку за подаянием. Теперь она сама посылала их на улицу; мало того, она говорила, что все они, все десять тысяч углекопов Монсу, с посохом и сумой пойдут по миру, как нищие, обходя несчастный край.
В темной комнате стало еще тоскливее. Ребятишки вернулись голодные, они хотели есть и удивлялись, почему не дают ужинать. Они хныкали, бродили по комнате и в конце концов отдавили ноги своей умирающей сестре, та застонала. Вне себя мать принялась колотить их в потемках по чему попало. А когда они еще громче разревелись, прося хлеба, она залилась слезами, опустилась на пол и обняла их и маленькую больную, всех вместе. Она долго плакала, потом смягчилась и, подавленная, повторяла раз двадцать все те же слова, призывая смерть:
— Господи, отчего ты нас не призовешь к себе? Господи, сжалься над нами, возьми же нас!
Дед оставался неподвижным, как старое коренастое дерево, выросшее под дождем и ветром, а отец, не поворачивая головы, ходил от камина к буфету.
Дверь отворилась, и на этот раз вошел доктор Вандерхаген.
— Черт возьми, — сказал он, — от свечи, я думаю, вы не ослепнете… Живее, я тороплюсь.
Он был завален работой и, по обыкновению, ворчал. К счастью, у него оказались спички. Маэ зажег шесть спичек одну за другой и держал их, чтобы доктор мог осмотреть больную. Ее развернули, без одеяла она вся дрожала; в мерцающем свете девочка казалась чахлой птицей, которая замерзает в снегу; она до того похудела, что выделялся один ее горб. Однако она улыбалась блуждающей предсмертной улыбкой, широко раскрыв глаза, а исхудавшими руками хваталась за впалую грудь. Когда мать, задыхаясь, спрашивала, справедливо ли, чтобы эта девочка, только одна и помогавшая ей по хозяйству, такая умненькая и кроткая, умерла раньше ее, доктор рассердился:
— Перестаньте! Она кончается… Твоя злополучная девчонка умерла с голоду. Впрочем, она не единственная, я видел тут рядом еще такую же… Все вы зовете меня, а я тут ровно ничего не могу поделать. Нужно мясо, чтобы поставить вас на ноги.
Маэ обжег пальцы и выронил спичку. Сумрак окутал маленький, еще теплый труп. Доктор торопливо ушел. В темной комнате слышались лишь рыдания матери; она без конца призывала смерть. Этьен слышал только эту непрестанную горькую жалобу:
— Господи, боже мой, теперь мой черед, возьми меня!.. Господи, возьми моего мужа, возьми всех, сжалься над нами, возьми же нас наконец!
III
В то воскресенье, часов в восемь вечера, в зале «Авантажа» оставался один Суварин, — он сидел на своем обычном месте, прислонившись головой к стене. Ни у одного из углекопов не было и двух су на кружку пива, никогда еще торговля не шла так плохо. Г-жа Раснер, сидя неподвижно за прилавком, угрюмо молчала; Раснер, стоя перед чугунным камином, рассеянно следил за красноватым дымом от тлеющих углей.
В жарко натопленной комнате было совсем тихо; вдруг раздались три коротких сухих стука в оконное стекло. Суварин обернулся, встал — то был условный знак: так Этьен не раз уже вызывал его, когда видел в окно, что Суварин сидит за пустым столом и курит папиросу. Но прежде нежели машинист успел дойти до двери, Раснер уже распахнул ее; узнав человека, который стоял на улице в полосе света, падавшего из окна, он сказал, обращаясь к нему:
— Ты боишься, что я тебя выдам? Вам лучше разговаривать здесь, чем на улице.
Этьен вошел. Г-жа Раснер вежливо предложила ему кружку пива; но он отстранил ее движением руки. Кабатчик прибавил:
— Я уже давно догадался, где ты прячешься. Если бы я был шпиком, как говорят про меня твои друзья, то уж неделю назад напустил бы на тебя жандармов.
— Тебе нечего защищаться, — возразил молодой человек. — Я знаю, ты не из таких… Можно не сходиться во взглядах и тем не менее уважать друг друга.
Снова воцарилось молчание. Суварин сел на стул, прислонившись спиной к стене, и стал следить глазами за дымом папиросы; но пальцы его лихорадочно дрожали, он проводил ими по коленям, как бы ища теплую шерсть Польши, которой в этот вечер не было; он бессознательно ощущал какую-то неловкость, ему чего-то не хватало, он сам не знал — чего.
Этьен, усевшись у другого конца стола, проговорил:
— Завтра возобновляются работы в Воре. Негрель привез бельгийцев.
— Да, их привезли сюда, когда уже смеркалось, — сказал Раснер, — не вышло бы снова драки.
Затем, возвысив голос, он добавил:
— Нет, видишь ли, я не хочу продолжать нашего спора, но только если вы будете упорствовать, все это плохо кончится. Знаешь, ваша история точь-в-точь похожа на твою затею с Интернационалом. Я ездил третьего дня по делам в Лилль и встретил там Плюшара. Его машина, видно, застопорила.