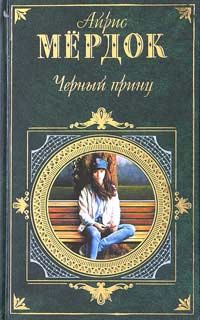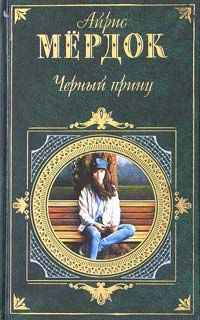Черный принц - Мердок Айрис
Это, наверно, может показаться глупым или жестоким, но после телефонного разговора я не меньше, а еще больше ощутил необходимость обладать Джулиан по-настоящему. Неудача, которой она так мало придавала значения, стала для меня средоточием всех сложностей. Во всяком случае, это было ближайшее препятствие. Вот преодолею его, а там уж буду думать, а там уж видно будет, что делать дальше. А пока я могу ждать, и никто не посмеет меня ни в чем обвинить. И если я справлюсь с этим, то, возможно, тогда-то меня и озарит наконец свет уверенности; и тогда-то, как представлялось моему помраченному рассудку, я смогу ясно и четко ответить на вопрос: отчего бы мне не жениться на этой девочке? Каким-то чудом мы полюбили друг друга. Кроме разницы в возрасте, ничто не препятствует нашему браку. Ну а на это можно просто закрыть глаза. Разве можно пренебречь такой любовью! Нет! Мы можем пожениться — ведь ничто, кроме женитьбы, не удовлетворит такую любовь. Я мог бы, я могу удержать Джулиан навсегда. Но моя пуританская совесть нашептывала мне мрачные советы, и до телефонного разговора я сам не понимал, отчего я так нерешителен.
Разумеется, я уже понял, что не скажу Джулиан о смерти Присциллы. Если я скажу, мне придется немедленно вернуться в Лондон. А я чувствовал, что если мы покинем наше убежище, если мы расстанемся теперь, то весь наш побег был ни к чему; никогда мы не избавимся от сомнений, и наше обручение не состоится. Я должен молчать и ради нее, и ради себя. Я обречен на пытку — молчать, чтобы высвободиться из тьмы. Нельзя, чтобы случившееся ворвалось в нашу жизнь. Я должен обладать Джулиан, но дело не только в этом. Я не могу и не хочу пугать Джулиан рассказом о самоубийстве Присциллы. Разумеется, мне придется скоро ей открыться, и скоро нам придется вернуться, но не теперь — сначала я добьюсь своей совсем уже близкой цели и завоюю право удержать ее навсегда. Присцилле нельзя помочь, остается исполнить долг перед Джулиан. Мука от того, что я вынужден таиться, — часть моей пытки. Мне хотелось сразу же все сказать Джулиан. Я нуждаюсь в ее утешении, в ее бесценном прощении. Но ради нас обоих я должен пока от него отказаться.
— Как ты долго. Посмотри на меня и угадай, кто я.
Я вошел с крыльца и после яркого солнечного света щурился в темной гостиной. Сначала я совсем не видел Джулиан, только слышал ее голос, доносившийся до меня из мрака. Потом различил лицо, больше ничего. Потом увидел, что она сделала.
На ней были черные колготки, черные туфли, черная облегающая бархатная куртка и белая рубашка, а на шее цепь с крестом. Она стояла в дверях кухни и держала в руках овечий череп.
— Это тебе сюрприз! Я купила все на твои деньги на Оксфорд-стрит, такой крест хиппи носят. Я у одного хиппи и купила. Стоит пятьдесят пенсов. Не хватало только черепа, но мы такой прекрасный череп нашли. Как по-твоему, мне идет? Бедный Йорик… Что с тобой, милый?
— Ничего, — сказал я.
— Ты так странно смотришь. Разве я не похожа на принца? Брэдли, ты меня пугаешь. В чем дело?
— Нет, ничего.
— Сейчас я все сниму. Давай обедать. Я нарвала салата.
— Мы не будем обедать, — сказал я. — Мы ляжем в постель.
— Сейчас?
— Да!
Большими шагами я подошел к ней, взял ее за руку, втащил в спальню и повалил на кровать. Овечий череп упал на пол. Я уперся коленом в кровать и начал стаскивать с нее рубашку.
— Подожди, подожди, порвешь.
Она принялась быстро расстегивать пуговицы, возиться с курткой. Я хотел стащить все это через голову, но мешали цепь и крест.
— Брэдли, подожди, пожалуйста, ты меня задушишь.
Я зарылся рукой в снежную пену рубашки и шелковую путаницу волос, добрался до цепи, нашел ее и разорвал. Рубашка соскользнула. Джулиан отчаянно расстегивала лифчик. Я начал стаскивать с нее черные колготки, она выгнулась дугой, помогая мне стянуть их с бедер. Секунду, не раздеваясь сам, я смотрел на ее голое тело. Затем стал срывать с себя одежду.
— Брэдли, пожалуйста, осторожней. Брэдли, прошу тебя, мне больно.
Потом она плакала. На этот раз я овладел ею, в этом не было сомнений. Я лежал выдохшийся и не мешал ей плакать. Затем я повернул ее к себе, и ее слезы смешались с каплями пота, от которых густые седые завитки у меня на груди потемнели, примялись и прилипли к горячему телу. Я был в экстазе и, обнимая ее, испытывал страх и торжество, сжимая в руках обожаемое, истерзанное, содрогающееся от рыданий тело.
— Не плачь.
— Не могу.
— Прости, что я порвал цепь. Я починю.
— Неважно.
— Я тебя напугал?
— Да.
— Я тебя люблю. Мы поженимся.
— Да.
— Ведь правда, Джулиан?
— Да.
— Ты простила меня?
— Да.
— Ну, перестань плакать.
— Не могу.
Позже мы все-таки опять любили друг друга. А потом оказалось, что уже вечер.
— Почему ты был такой?
— Наверно, из-за принца датского.
Мы страшно устали и проголодались. Мне захотелось вина. При свете лампы мы тут же съели все, что у нас было приготовлено: ливерную колбасу, хлеб с сыром и кресс-салат; в открытые окна лился синий соленый вечер и заглядывал в комнату. Я допил все вино.
Почему я был таким? Решил ли я вдруг, что Джулиан убила Присциллу? Нет. Ярость, гнев были направлены против меня самого через Джулиан. Или против судьбы через Джулиан и меня. Но, конечно, эта ярость была и любовью, проявлением божественной силы, безумной и грозной.
— Это была любовь, — сказал я ей.
— Да, да.
Во всяком случае, я преодолел первое препятствие, и хотя мир опять переменился, он снова оказался не таким, как я ожидал. Я предвидел, что на меня снизойдет все упрощающая уверенность. Но мое отношение к Джулиан по-прежнему уходило во мрак будущего, насущного и пугающего, динамичного и меняющегося, казалось, каждую секунду. Девочка была уже другой, я был другим. И это то тело, каждую частицу которого я боготворил? Словно высшей силой внесло страшные абстракции в самую сердцевину страсти. Минутами я дрожал и видел, что Джулиан тоже дрожит. Мы трогательно утешали друг друга, будто только что спаслись от пожара.
— Я починю твою цепь. Вот увидишь.
— Зачем, можно просто завязывать ее узлом.
— И овечий череп тоже склею.
— Он вдребезги разбился.
— Я его склею.
— Давай задернем шторы. У меня такое чувство, будто к нам заглядывают злые духи.
— Мы окружены духами. Шторами от них не спастись. Но я зашторил окна и, обойдя стол, встал за ее стулом,
чуть касаясь пальцем ее шеи. Тело у нее было прохладное, почти холодное, — она вздрогнула, выгнула шею. Больше она никак не отозвалась на мое прикосновение, но я чувствовал, что наши тела связывает непостижимая общность. Пришло время объясниться и на словах. Слова стали другие, пророческие, доступные лишь посвященным.
— Я знаю, — сказала она, — их толпы. Со мной никогда такого не было. Слышишь море? Совсем рядом шумит, а ветра нет.
Мы прислушались.
— Брэдли, запри, пожалуйста, входную дверь.
Я встал, запер дверь и снова сел, глядя на Джулиан.
— Тебе холодно?
— Нет… это не холод.
— Я понимаю.
На ней было голубое в белых ивовых листьях платье, в котором она убежала из дому, на плечах — легкий шерстяной плед с кровати. Она смотрела на меня большими, широко раскрытыми глазами, и лицо ее то и дело вздрагивало. Было пролито немало слез, но больше она не плакала. Она так заметно повзрослела, и это так ей шло. Уже не ребенок, которого я знал, но чудесная жрица, пророчица, храмовая блудница. Она пригладила волосы, зачесала их назад, и лицо ее, беззащитное, отрешенное, обрело двусмысленную красноречивость маски. У нее был ошеломленный, пустой взгляд статуи.
— Ты мое чудо, мое чудо.
— Так странно, — сказала она. — Я сама будто совсем исчезла. Со мной еще никогда такого не было.
— Это от любви.
— От любви? Вчера и позавчера я думала, что люблю тебя. А такого не было.
— Это бог, это черный Эрот. Не бойся.
— Я не боюсь… Просто меня перевернуло, и я вся пустая. И вокруг все незнакомое.