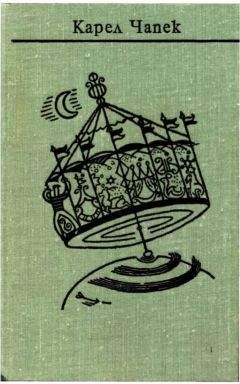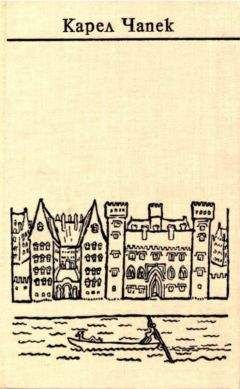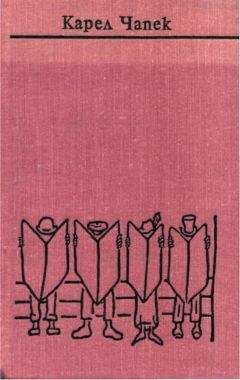Карел Чапек - Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы
Связная история жизни. Мой бог, что же мне теперь с нею делать? Ведь правда же, что был я обыкновенным и вполне счастливым человеком, одним из тех, кто честно исполняет свой долг; и это — главное. Ведь такая жизнь формировалась во мне с малых лет; в ней оставил след отец, в своем синем фартуке склоняющийся над досками, поглаживая готовое изделие; и все, кто жил вокруг — каменотес, гончар, бакалейщик, стекольщик и пекарь, — все серьезные, внимательно углубленные в свое дело, словно ничего иного и нет на свете. А когда делалось трудно или больно — хлопнуть дверью, да еще усерднее вцепиться в работу. Жизнь — это не события, это — работа, это наш постоянный труд. Да, именно так; и моя жизнь была трудом, в который я погружался по уши. Я не знал бы, куда девать себя без какого-нибудь дела; и когда пришлось уйти на покой, я купил вот этот домик с садом, чтоб было с чем возиться, сажал, взрыхлял землю, полол и поливал, — слава богу, в такую работу углубляешься до того, что и о себе забываешь, и обо всем, кроме того, что под руками; да, это тоже была отчасти крошечная ограда из щепочек, над которой я ребенком сиживал на корточках; и здесь мне было дано немало радостей, — и я видел зяблика, который глянул на меня одним глазком, как бы спрашивая: кто ты? Зяблик, зяблик, я обыкновенный человек, как все другие за моим забором; теперь я садовод, но этому меня научил старик тесть, — ведь почти ничто не пропадает даром, такой во всем дивный и мудрый порядок, такой прямой и неизбежный ход. От детства — и досюда. Так вот она — связная история о человеке. Простая и педантичная идиллия — да.
Аминь — и да, это правда. Однако есть здесь еще одна история, тоже связная и тоже правдивая. История о том, кто хотел как-нибудь возвыситься над заурядной средой, в которой родился, над этими столярами и каменотесами, над товарищами своими и над всем школьным классом — хотел этого неизменно, неизменно. И тянется это тоже с малых лет и до конца. Но эта жизнь сделана совсем из иного материала, из неудовлетворения и заносчивости, которые все время требуют себе как можно больше места. И думает человек уже не о работе, а о самом себе, о том, как бы сделаться больше других. Учится он не оттого, что это доставляет ему радость, а затем, что хочет быть первым. И, ухаживая за куколкой — дочерью начальника, самовлюбленно думает: а я-то достоин большего, чем телеграфист или кассир. Все время — я, одно лишь я. Ведь и у семейного очага он забирает себе все больше и больше места, пока не стало так, что только он, и все вертится вокруг него. Казалось бы, уже достаточно? В том и беда, что мало ему; достигнув всего, что ему требовалось, он не может не искать новых, больших мест, где мог бы снова раздуваться, исподволь, но наверняка. Но в один прекрасный день кончилось все, вот что грустно, да еще как скверно кончилось-то; и разом человек стал стар, и не нужен, и одинок, и чем дальше, тем меньше от него остается. Вот и вся жизнь, зяблик, и не знаю я, из счастливого ли она была сделана материала.
Правда, есть еще и третья линия, тоже связная и тоже идущая от детства: линия ипохондрика. В ней замешана матушка, знаю; это она так меня избаловала и наполнила страхом за себя. Этот третий человек был как бы слабым, болезненным братцем того, с локтями; оба эгоисты, это верно, но тот, с локтями, был агрессивен, а ипохондрик сидел в обороне; он только боялся за себя и хотел одного — пусть будет скромно, лишь бы безопасно. Никуда он не лез, искал только безбурной пристани, укромного уголка, — вероятно, потому-то и пошел на государственную службу и женился, ограничив тем самого себя. Лучше всего он уживался с тем первым человеком, обыкновенным и хорошим; работа, с ее регулярностью, давала ему славное чувство уверенности и чуть ли не прибежища. Тот, с локтями, хорош был, чтоб обеспечивать некоторое благополучие, хотя его неудовлетворенное честолюбие порой нарушало осторожный и удобный мирок ипохондрика. Вообще три эти жизни как-то уравновешивали друг друга, хотя и не сливались воедино; обыкновенный человек делал свое дело, не заботясь ни о чем ином; человек с локтями умел выгодно продать этот труд, но он еще и подстегивал: сделай то-то, а того-то не делай, это тебе ничего не даст; ну-с, а ипохондрик самое большее озабоченно хмурил брови: главное — не надорваться, во всем соблюдай меру. Три такие разные натуры, а в общем-то не ссорились между собой; молча приходили к согласию, а может быть, даже как-то считались друг с другом.
Эти три личности были, так сказать, моими узаконенными супружескими жизнями; их делила со мной моя жена, с ними она вступила в союз верности и солидарности. Но была тут еще одна линия, романтическая. Романтика моего я назвал бы товарищем ипохондрика. Личность весьма необходимая — она хоть как-то возмещала то, что отрицал ипохондрик: любовь к приключениям и широту души. С другими об этом и речи быть не могло: человек с локтями был слишком деловит и трезв, а обыкновенный был совсем обыкновенный, без фантазий. Зато ипохондрик, тот страшно любил всякое такое: вот переживаешь что-то очень увлекательное и опасное, а сам при этом сидишь в безопасности дома; хорошо иметь в запасе такое авантюрное, рыцарственное «я». Оно с детства было со мной, было неизбежной и неотъемлемой частью моей жизни — но не моего супружества; об этом жена моя не должна была знать. Возможно, у нее тоже были ее, другие «я», ничем не связанные ни с ее семейной жизнью, ни с супружеской любовью; но я об этом ничего не знаю.
Затем есть тут еще пятое действо — тоже история связная и правдивая; начало ее относится к моим мальчишеским годам. Это и была жизнь порочная, с которой ни один из остальных моих «я» не хотел иметь ничего общего. Даже знать о ней не полагалось, лишь изредка… в строжайшем уединении, чуть ли не впотьмах, тайком, украдкой можно было немножечко наслаждаться ею, но это было со мною все время, дурное, вшивое, бесконечно порочное, и жило само по себе. Это было не «я» и не какой-нибудь «он» (как, например, романтик), это было некое «оно», нечто до того низменное и подавляемое, что уж не творило никакой личности. Все, что хоть в малейшей степени было мною, с отвращением сторонилось его; может быть, даже ужасалось его, как чего-то такого, что — против моего «я», что — гибель, самоистребление, но знаю, как это выразить. Больше я не знаю, ничего не знаю; ведь и сам-то я не познал этого, никогда не видел его целиком, а всегда лишь как нечто шевелящееся вслепую, во тьме… Ну да, как в лачуге, запертой на крючок, в грязной лачуге, вонючей, как звериная нора.
И еще была история — не полная, только фрагмент. История поэта. Ничего не могу поделать, чувствую, что у поэта этого было больше связи с тем низменным и тайным, чем с любым другим, что было во мне. Конечно, в поэте было и нечто высшее, но стоял-то он на той стороне, а не на моей. Господи, если б я умел это выразить! Поэт — он будто хотел каким-то образом высвободить все темное и тайное, будто пытался сделать из этого человека или даже больше, чем человека. Но для этого, видимо, нужна была особая божья милость или чудо, — отчего мне все время представляется ангел, взмахивающий крылами? Быть может, это неискупленное во мне единоборствует с каким-то ангелом-хранителем; иной раз вываляет ангела в свинстве, но временами казалось — все злое, все отверженное будет очищено. Словно во тьму врывался сквозь щели некий яркий, ослепительный свет, прекрасный до того, что даже сама нечистота как бы вспыхивала сильным, великолепным сиянием. Быть может, это неискупленное во мне должно было стать моей душою — как знать. Известно одно: этого не случилось. Отверженное осталось отверженным, а поэта — у которого не было ничего общего с тем, что было моим признанным, законным «я», — унес черт, не было для него места в остальных моих жизнях.
Вот инвентарная опись моего бытия.
XXXНо и это еще не все. Остается один случай, — вернее, обрывок случая. Эпизод, не укладывающийся ни в одну из моих связных историй, стоящий обособленно, — взялся неизвестно откуда, и все тут. О господи, к чему околичности, не стану я без конца скромничать! То, что я делал во время войны, было чертовской дерзостью, — скажем, даже геройством. Ведь за все это грозил военный трибунал и петля — такая же верная, как дважды два четыре, и я это отлично знал. И действовал я даже не очень осторожно — разве что не оставлял никаких письменных следов, а разговоры об этих делах я вел с десятками кондукторов, машинистов, почтовиков, — проговорись кто-нибудь из них или донеси, и пришлось бы очень худо и мне и другим. При всем том я не чувствовал ничего героического, возвышенного; никакого национального долга или жертвы жизнью и прочих высоких мыслей; просто я сказал себе, что надо делать что-нибудь в этом роде, ну и делал, как будто это разумелось само собой. Мне даже немного стыдно было, что я не начал раньше; я видел, что другие, все эти отцы семейств, кондукторы и кочегары, только и ждали возможности что-то делать. Например, тот проводник — пятеро детей у него было, а он только и сказал: «Ладно, пан начальник, не беспокойтесь, сделаю». А ведь и его могли повесить, и ему это было известно. Мне уж и спрашивать наших не надо было, сами приходили, я их и знал-то едва. «Боеприпасы идут в Италию, пан начальник, видно, там заваруху жди». И — все. Теперь я вижу, до чего же мы были неосторожны — и они и я, — но тогда об этом вовсе не задумывались. Я называю это геройством, потому что те люди и были герои; я был ничуть не лучше их, только вносил в дело некоторую долю организованности.