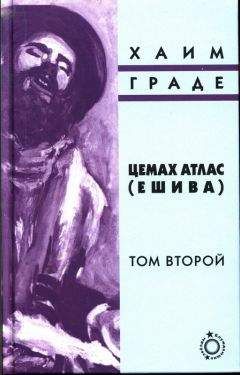Хаим Граде - Мамины субботы
Теперь дибук во мне говорит: вот тебе за то, что ты вернулся домой. Там, в Средней Азии, высокие заснеженные горы, а тут обвалившиеся дома. Я ступаю по камням мостовой и чувствую, что иду по головам. У каждого камня свое лицо, своя маска. О, если бы сейчас меня хлестали по щекам пески пустыни Каракумы! Лучше бы я смотрел на пустынное дерево саксаул с вывернутыми ветвями и искривленным стволом, чем держал в ладонях пепел гетто и видел высокую черную печную трубу, которая пялится, как и я, в небо и спрашивает, как и я: почему? Если бы в трубе хотя бы выл ветер! Но даже ветер лежит отравленный, зарезанный. Пусто, тихо, мертво. В детстве я слышал от мамы, что в развалинах танцуют злые духи. Вот бы натолкнуться на шайку чертей, тогда я был бы уверен, что есть ад, а значит, воздаяние.
Остались стены, крыши, колонны, карнизы и балки, висящие, как на весах. Остались гнутые железные кроватки, ржавые детали примусов, кривые вилки, ножи, ложки. Остался я, но не осталось слез в глазах, похожих на оконные дыры без рам и стекол. Я не могу выдавить из глаз ни слезинки, слез нет, так же как в провалах окон нет ни одного еврея. Посмотрите! Целый ряд лавок, закрытых ставнями и засовами, целая улица с запертыми дверями и воротами. Кажется, где-то смеются, за глухими воротами кто-то давится смехом или заходится чахоточным кашлем.
— Открой, разбойник, открой!
Никто не смеется, никто не кашляет, никто не отвечает.
Вот так беспрерывно бушует во мне дибук, говорит без остановки, стучит моими кулаками в запертые ворота, и убитые кварталы отвечают стоном, жалуясь на то, что нарушают их мертвый покой. Изо дня в день я скитаюсь по одним и тем же семи переулкам второго, большого гетто. Было еще и малое, первое. Оно состояло из Синагогального двора и окрестностей. Тамошних евреев немцы перебили еще четыре года назад, с тех пор район пустует. Туда даже мой дибук боится меня тащить. Там жила мама.
Иногда я в задумчивости подхожу к выходу из гетто, туда, где были ворота. Один шаг — и я окажусь по ту сторону. Среди развалин темнеет быстрее. Отсюда мрак выползает в город, в котором гуляют, разговаривают и смеются люди. Вильна понемногу оживает. Вдалеке слышатся тяжелые мерные солдатские шаги. Играет военный оркестр, и солдаты поют. Там маршируют и поют победители, но гетто не дожило до победы. Я поспешно сворачиваю обратно в переулки. Я страж, которому нельзя уйти. Вот затаившаяся немота спрашивает меня: «Страж, что было ночью? Страж, сколько еще осталось ночи?»[181] И реинкарнация руин во мне отвечает: «День умер здесь и пустынен, как ночь. Здесь в неделе целых семь суббот, по числу переулков. Но эта суббота — от опустошения, вечная проклятая суббота».
«Так что же ты ищешь? Чего ты ждешь?» — спрашивает загадочная тишина, и заключенный во мне дух снова заходится тихим плачем: «Я жду, чтобы взошла луна и сплела из своих холодных лучей серебряную бороду старого еврея, склонившегося из окна. Может быть, по проваленным ступеням спустится еврейская девушка в белой лунной рубашке. Она вынырнет из укрытия с черными распущенными волосами и прильнет ко мне, упадет мне на шею. Может быть, в какой-нибудь каморке кто-то еще жив и не верит, что спасение пришло. Пусть этот обезумевший от страха еврей вылезет из своей живой могилы и рассмеется подземным смехом. Он будет смеяться, а я ужасаться. Я хочу ужаснуться! Хочу, чтобы меня трясло от ужаса!»
Но луна бежит от гетто, и ночные образы, сотканные моим больным воображением, развеиваются навсегда.
В переулках становится темно, как в подвале. Фонарь, висящий у входа в гетто, отбрасывает красный луч, будто протягивая мне окровавленный нож. Я слышу, как что-то шуршит у ног. Это обрывки и рассыпанные листы священных книг. Гетто уничтожено годы назад, но эти клочки еще валяются вокруг, словно мертвые приходят сюда по ночам и углубляются в чтение. Они вырывают прочитанную страницу и отдают ее ветру, чтобы тот передал ее мне и я увидел, что стало с народом книги. Я поднимаю разрозненные листы и набиваю ими карманы. Дома я расправлю и разглажу их. Может быть, я узнаю пальцы, которые их смяли, я услышу голос ученого еврея, вмешавшегося в спор между Абайей и Рабой[182] в Геморе. Может быть, мне засияют слезы, упавшие на страницы женского молитвенника. Или я увижу собственное лицо и снова смогу мечтать над книгой с волшебной сказкой.
Помнишь, бормочу я себе под нос, помнишь ту чудесную сказку, которую ты читал в детстве? Богобоязненный еврей в пятницу вечером заблудился в лесу. Солнце зашло, и он горько плакал, что не сможет соблюсти субботу. Но вот он заметил между деревьев дворец. Навстречу еврею вышел старик и без слов пригласил следовать за ним. Он повел заблудившегося к водам ароматной реки, чтобы тот совершил омовение, а потом подал дорогие одежды, чтобы гость оделся в честь субботы. Еврей хотел что-то спросить, но старик знаком велел ему хранить молчание и ввел в первую комнату, сверкающую серебром и золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Во второй комнате меноры и висячие светильники сияли, как семь светил шести дней творения. Так и шел ослепленный и восхищенный гость от комнаты к комнате, каждая из которых была красивее и богаче предыдущей, пока в последнем, седьмом зале его не встретили семеро седобородых старцев, похожих на заснеженный дубовый лес. Они приветствовали его и позвали в миньян, сказали, что он нужен для молитвенного кворума. Бедный еврей испугался и стал теряться в догадках: старцев семеро, он восьмой, тот, кто встретил его, — девятый, а кто десятый? Десятого он не видел. Но чувствовал, что десятый повсюду, как сияющая Шхина[183]. И его охватил невероятный трепет перед Величием. Но простого страха, заставляющего дрожать человеческое тело, в его сердце не было. Затем у бимы встал старец в царской короне и приветствовал Субботу с такой сладостью, словно был самим псалмопевцем[184]. А после молитвы гостю велели омыться, и он ел мясо со вкусом шойр а-бора[185]. И пил вино со вкусом сбереженного[186]. Еврей провел с этими старцами всю субботу в молитве, пении хвалы Творцу и изучении Торы. И хотелось бы ему сказать слово на будничные темы, но старцы велели ему молчать. А на исходе субботы ему дали понюхать благовония[187] с ароматом древа жизни. Потом старик, который привел еврея во дворец, вывел его опять в лес и шепотом сказал, что тот побывал в раю. Седобородые старцы — это Авраам, Ицхак и Яаков, Моше и Аарон, Давид и Шломо, сам же он, служитель дворца, — Эльазар, раб праотца Авраама. А десятым в миньяне был Господь, да будет благословенно Имя Его. Дворец исчез, и увидел еврей, что вместо семи комнат дворца перед ним семь скорбных переулков виленского гетто. И старцы, вышедшие ему навстречу, это тени погибших. И молитвы, которые он слышал, — это обрывки святых книг, шуршащие под ногами.
Мой дибук смертельно устал. Я бужу его, а он не отвечает, лежит, затаившись. Теперь можно идти домой, на улицу Гедимино, в целый и невредимый квартал иноверцев, где живут вернувшиеся евреи. Я бреду по мрачным переулкам, а за мной плетутся дома с выбитыми окнами, голыми стенами и черными, закопченными трубами, горбатые крыши и хромые домишки — толпа калек и слепых попрошаек, нащупывающих дорогу руками.
Полоса света падает на темную мостовую гетто и пересекает мой путь. Я отскакиваю назад, словно натолкнулся на живого еврея, только что выбравшегося из своего убежища. Свет идет из подвального окошка, расположенного у самой земли. В окошке висит черный сапог с острым носом, вывеска, говорящая о том, что тут живет сапожник. Я заглядываю внутрь, и мне кажется, что сапожник — еврей. От медленного, сонного стука, доносящегося из его мастерской, веет домашним теплом. Меня тянет спуститься в подвал и посмотреть, кто этот ремесленник. Я нащупываю дверь и спускаюсь по полуразвалившимся скользким ступеням. В нос бьет запах плесени, гнили и грязи. Я открываю ведущую в подвал внутреннюю дверь, и керосиновая лампа, висящая на проволоке над низким сапожным верстаком, начинает качаться. Огонек в коптящей лампе вспыхивает, подпрыгивает и пляшет, словно радуясь полуночному гостю.
Сапожник
Спиной ко мне на табурете сидит высокий широкоплечий человек и работает над сапогом, надетым на железную ногу. Он поворачивает в мою сторону плечо и выжидает, держа молоток в поднятой руке.
— Еврей? — спрашиваю я.
— Еврей.
Смотреть на меня у сапожника нет никакого желания, он сердито хрипит и стучит по каблуку еще резче и громче, чтобы я понял, как он занят. Я стою у входа в окружении теней, застывших на стенах и потолке и пронизанных красноватым светом чадящей лампы.
— Как вы живете в этой развалине? — спрашиваю я.
— Так и живу. — Под сапожником скрипит табуретка, и он еще больше погружается в работу.