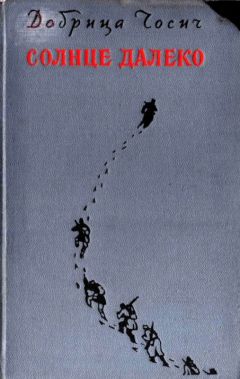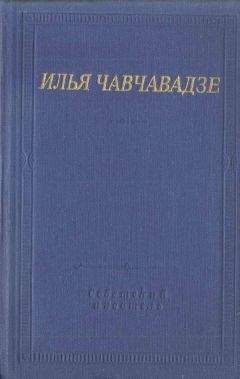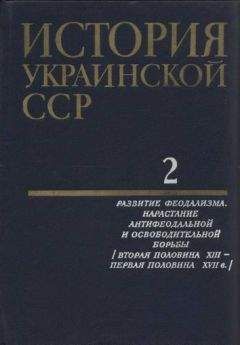Добрица Чосич - Солнце далеко
6
Вокруг Вука начинался обычный партизанский день — беспокойный, по-военному однообразный, заполненный теми вечными тяготами партизанской жизни, к которым через год человек привыкает, как к чему-то необходимому.
Партизаны вставали один за другим. Их подымали с рассветом стужа, голод и эта, ставшая привычной, подлая дрожь в ожидании нападения немцев. Спотыкаясь о тела лежащих, дрожа от холода и стуча зубами, они подходили к очагу и спрашивали еду. Как обычно «три старца» — так называли себя Евта, Джурдже и Никола — первыми расположились у огня. Евта зарыл в золу несколько картофелин, которые на всякий случай он положил в свою сумку, еще когда был в селе.
— А знаешь ли ты, служивый, что сегодня Новый год, самый обыкновенный, 1943? — начал разговор Джурдже, известный шутник Второй роты, маленький, костлявый человечек, прямой, как молодой побег винограда, с голубыми нежными глазами и закрученными вверх рыжеватыми усиками. До войны Джурдже был столяром. Командира своего взвода — сапожника Николу и пекаря Симу, которым было уже за тридцать, он величал «служивыми», Евту — «дядей», а к остальным обращался просто «парень». — Когда я отправился к партизанам, — продолжал Джурдже, — говорит мне этот щербатый Вуксан: «Русские сбросят парашютистов, мы каждую ночь ждем их, а война через месяц кончится». Несколько ночей мы собирались и жгли костры, чтобы подать знак русским самолетам. Наконец прошло лето, появился иней, начались заморозки, снегу набралось по пояс, а Гитлер околачивается около Москвы. «Что ж это такое?» — спрашиваю я. — «Весной, — говорит, — кончится». — «Хорошо, — говорю, — подожду пока придет Джурджев-дан»[18]. И вот уже вторую зиму брожу, как медведь, по Ястребцу. Теперь Павле и говорит мне: «Ты, Джурдже, сознательный товарищ». А я, брат, за справедливость. Вот кончится наше партизанское дело — Джурдже опять вернется к своему верстаку. Только бы это наступление еще выдержать.
— Да ведь ты, грешник, собираешься пережить еще революцию! — прервал его Никола, рыхлый плешивый человек среднего роста, и, почесывая волосатую обнаженную грудь, добавил: — Посмотрел бы на себя. Вон у тебя лопатки, как лемехи, торчат. Это твой последний Новый год.
— Ну-ка помолчи! Этот парень не пропадет, — прошамкал Евта, закапывая картофель в горячую золу.
— Поймает тебя Вуксан, как щуку в бредень. Ведь он, сопляк, в сыновья тебе годится. Справедливость-то твоя горькая. Назови мне своих должников, я тебе памятник на твои же деньги поставлю, — гудел, поддразнивая его, Никола и громко смеялся.
До войны Джурдже слыл человеком, у которого деньги текут сквозь пальцы. Весь свой заработок он раздавал в долг приятелям или тратил на компанию. Джурдже решил, что не женится и не приведет молодую, пока не купит дом с садиком на окраине и не обставит его по собственному вкусу. Но этому добряку так и не удалось осуществить свою мечту до тридцати трех лет. Потом его взяли на сборы, началась война, потом партизанская борьба… Обо всем этом он рассказывал в шутливом тоне.
Свое участие в рабочем движении Джурдже объяснял так: «Коммунисты заманили меня, потому что у меня мягкое сердце. «Дай, Джурдже, на красную помощь!» — Бери! — «Дай, Джурдже, на помощь товарищам в лагерях!» — Бери! — «Помоги, Джурдже, партии!» — Помогаю. — «А нельзя ли у тебя, Джурдже, переночевать одному товарищу?» — Почему же, можно! — «А можно нам, Джурдже, собраться у тебя сегодня вечером?» — Конечно, почему же нет! — «Ты, Джурдже, мог бы листовки разбросать на военном заводе, тебя никто не заподозрит». — Ну, что ж, давайте! — «Давай!» — Бери! «Можешь?» — Могу! Вот из-за этого своего доброго сердца я и отправился, как та вдова, к дьяволу на свадьбу. А уж попал, так не выберешься. А когда немец бросился на русских, приходит ко мне Вуксан — он связь с верхами держал — и говорит: «Джурдже, тебе необходимо уйти в отряд. Ты рабочий, и ты скомпрометирован». — Необходимо, отвечаю, а сам чувствую, как у меня сжалось сердце. Да, некуда тебе идти, дружище, говорю себе. То не был скомпрометирован, а теперь вдруг — скомпрометирован! Так однажды ночью очутился я на Ястребце и узнал, почем фунт лиха. Ну, а дальше пошло по порядку — четыре времени года и опять все сначала».
— Долги собирать я уполномочу дядю Евту, — сказал Джурдже, — его пуля не берет. Похоже на то, что святой архангел Михаил засунул куда-то список, где стоит его имя. На мои деньги он тебя, убиенного, каждую субботу поминать будет, чтобы ты хоть на том свете наелся, если не мог за тридцать с лишним лет набраться на земле.
Так они шутили, задирая друг друга, посмеиваясь над собой и над окружающими. В самых тяжелых условиях, перед боем и после сражения, при победе и поражении, они мужественно и бодро переносили страдания и тяготы партизанской борьбы. Никола и Джурдже были самыми близкими друзьями. «Два тела — одна душа», как говорил Евта, они никогда не разлучались, ни в атаке, ни на ночлеге, и готовы были, не рассуждая, в любую минуту погибнуть друг за друга. До войны они были мало знакомы и даже чуждались один другого. Николу тогда считали убежденным сторонником Югораса[19], и Джурдже однажды, подвыпив, хотел было стукнуть его бутылкой. Никто не знал, что Никола надежный и верный связной партии с ее Покраинским комитетом[20]. Никто не знал, что этот босой бродяга, шедший во время облавы по главной улице окруженного немцами города, тащил на спине мешки, набитые запрещенной литературой, оружием, медикаментами и прочими вещами для партизан. И только, когда он поджег биржу труда и вместе с ударной группой взорвал цистерну с бензином, только тогда догадались, кем был этот плешивый гуляка-сапожник. Но было уже поздно: Никола успел присоединиться к отряду. Здесь он держался просто, ровно, слегка насмешливо, словно ничего не случилось, и упорно избегал каких бы то ни было рассказов о своих подвигах.
— Чего расшумелись! Видите, кругом спят еще! — раздались сонные голоса. Они ненадолго замолчали и занялись картошкой, чтобы она не сгорела.
— Эх, сейчас бы поросенка и горячего кукурузного хлеба. Вот бы наелся, воробью ни крошки бы не осталось, — тихо начал Никола.
— И я! Только бы еще фасоли в горшочке сварить, — вмешался Евта. — Нет на свете еды лучше фасоли! Ты думаешь, мы выдержали бы эту му;´ку, если бы не выросли на фасоли? Когда я бывало варил ее на салоникском фронте, французы пальцы облизывали. Даже генералы! Просто отбоя от них не было, — говорил Евта, переходя на воспоминания о прошлой войне, когда он из артиллерийского наводчика превратился в штабного повара.
— Как только возьмем Крушевац, устрою посреди площади великий пир, — прервал его Никола. — Чего там только не будет — больше чем у царя Лазаря, когда он пошел на Косово[21]. После войны стану жить в доме, где у крыльца не больше двух ступеней. На всю жизнь по горам находился. И пешком ходить не буду. Пока силы есть, буду гонять на велосипеде, а состарюсь — куплю двуколку. Кончится война — придет мой черед: отосплюсь, отъемся и ногам отдых дам. И пожизненную пенсию себе назначаю в два кило мяса ежедневно, — говорил Никола.
Рядом с ним, положив морду на опанок, лежал большой серый пес по кличке Молния. Никола, больше всех в отряде страдавший от голода, всегда делился с Молнией своим маленьким пайком. Ночью, на переходах, даже в бою он заботился о собаке и на отдыхе устраивал ее рядом с собой. Теперь, словно понимая, что люди говорят о еде, пес разевал пасть, скрипел зубами и смотрел на Николу пестрыми масляными глазами, почесывая морду о жандармскую камашну[22], свободно болтавшуюся вокруг тощей ноги хозяина.
— А еще говорят, что у животных души нет, — вмешался Евта. — Ты только посмотри на него, ведь так и говорит: я голоден.
— Как это, нет души? Раз уж он попал к партизанам, так у него не только душа, но и ум есть, — заметил Никола и, ласково потрепав пса по шее, продолжал рассказывать о том, что он будет делать, когда они войдут в Крушевац…
До каких же пор люди будут голодать за справедливость? Вот родится человек бедняком, да еще такая мелюзга вроде меня — а таких ведь больше половины на земле, — и всю жизнь бьет его несправедливость. Верно, дядя? — сказал Джурдже, как бы про себя.
— Эх, сыны мои, пока реки текут, до тех пор будет неправда на свете, — заметил Евта.
— Еще чего, старый! Что ты раскудахтался, словно нестись собираешься, — недовольно прервал его Станко, маленький, черный, как цыган, пулеметчик, у которого пуля оторвала кусок уха; крестьяне так и звали его — Рваное Ухо.
— А-а-а, это ты, разбойник? Садись! У меня для тебя приятная новость. Ты почему это бросил сумку с фасолью, когда пришла твоя очередь нести провиант? А теперь изволь тебя защищать перед комиссаром!
— Ты меня защищаешь?
— Вишь ты, еще спрашиваешь? Сегодня ночью, часов этак около трех, пришел комиссар и давай трясти меня за плечо: «Где, — говорит, — фасоль, которую несли бойцы твоего отделения вместе со Станко? Нужно ее сварить и раздать роте на завтрак». Я туда, я сюда, и забыли мы, и то, и се… Так и не сказал ему, что это ты, вредитель, ее потерял. А теперь люди два дня без еды будут. Ну и досталось мне от комиссара! — врал Евта под смех окружающих.