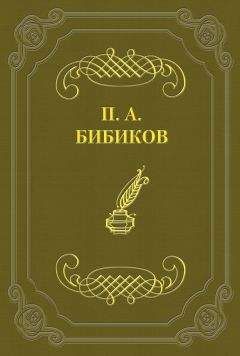Оливер Голдсмит - Вэкфильдский священник
— Охъ, батюшка, не будьте къ нему слишкомъ строги! воскликнулъ Моисей:- Богъ вѣдь судитъ людей по дѣламъ ихъ, а не по тому, что бродитъ у нихъ въ головѣ. Мало ли какія грѣшныя фантазіи находятъ на человѣка; иной разъ и не отвяжешься отъ нихъ. Можетъ быть этому джентльмену поневолѣ приходятъ вольныя мысли насчетъ религіи? Положимъ, что онъ о ней думаетъ совершенно неправильно, но если это непроизвольно, чѣмъ же онъ виноватъ? Это все равно, что поручить коменданту защиту города, не обнесеннаго стѣной; развѣ его вина, коли непріятель войдетъ въ городъ и расположится въ немъ?
— Правда, сынъ мой, отвѣчалъ я:- но если комендантъ самъ приглашаетъ непріятеля занять городъ, то вся вина падаетъ на него. А это именно и случается съ тѣми людьми, которые охотно поддаются заблужденію. Грѣхъ не въ томъ, чтобы соглашаться съ очевидностью, а въ томъ, чтобы нарочно закрывать глаза передъ многими обстоятельствами, доказывающими противное. Хотя бы вначалѣ ошибочное мнѣніе составлялось въ насъ и поневолѣ, но если мы пребываемъ въ немъ по собственному побужденію или допускаемъ его овладѣть нами безъ зрѣлаго размышленія, то это съ нашей стороны доказываетъ или порочность, за которую мы заслуживаемъ наказанія, или же неразуміе, за которое справедливо будутъ презирать насъ.
Тутъ въ разговоръ вмѣшалась моя жена и, оставивъ въ сторонѣ мои доводы, стала доказывать, что въ кругу нашихъ знакомыхъ не мало есть толковыхъ людей, завѣдомыхъ вольнодумцевъ, изъ которыхъ, однако же, выходили превосходные мужья; а съ другой стороны бываютъ и такія умныя дѣвушки, которыя способны обратить своихъ мужей на путь истинный.
— Почему знать, другъ мой, прибавила она, — на что способна наша Оливія? Эта дѣвочка обо всякомъ предметѣ умѣетъ наговорить съ три короба; и, насколько я понимаю, она очень начитана по части философскихъ диспутовъ.
— Что ты, моя милая, да какіе же диспуты она читала? Я, кажется, такихъ книгъ ей даже въ руки не давалъ. Ты, навѣрное, что нибудь спутала.
— Нѣтъ, папа, ничего не спутала, вступилась Оливія, — и это правда, что я начиталась довольно всякихъ диспутовъ. Вотъ, напримѣръ, я прочла споръ Твакума со Сквэромъ[1]; разсужденія Робинзона Крузе съ дикаремъ Пятницей; и даже теперь читаю статью о препирательствахъ передъ Судилищемъ Любви.
— И прекрасно, сказалъ я, — сейчасъ видно, что ты умница и какъ нельзя лучше подготовилась къ миссіонерской дѣятельности. Поди же, помоги матери готовить пирогъ съ крыжовникомъ.
VIII. Любовь, не обѣщающая никакого блеска, можетъ, однако же, дать много хорошаго
На слѣдующій день мистеръ Борчель опять зашелъ къ намъ. Его учащенныя посѣщенія по нѣкоторымъ соображеніямъ начинали тревожить меня, однако не могъ же я отказать ему отъ дому ни съ того, ни съ сего. Впрочемъ, его визиты были намъ не въ убытокъ, потому что онъ такъ усердно помогалъ намъ во всѣхъ полевыхъ работахъ, что положительно заслуживалъ нашу хлѣбъ-соль. Къ тому же, своими забавными прибаутками онъ такъ развеселялъ всю компанію, что съ нимъ намъ легче было работать, и былъ вообще такъ деликатенъ, уменъ и неприхотливъ, что я поневолѣ то смѣялся надъ нимъ, то жалѣлъ его, но постепенно привязывался къ нему всѣмъ сердцемъ. Единственное, что мнѣ въ немъ не нравилось, было явное предпочтеніе, какое онъ оказывалъ моей дочери: онъ въ шутку уже называлъ ее своей маленькой возлюбленной, и когда приносилъ нашимъ дѣвочкамъ въ подарокъ ленты, Софьѣ всегда доставались самыя красивыя. Не знаю, какъ это случилось, но мы стали замѣчать, что съ каждымъ разомъ онъ становился все любезнѣе, остроуміе его теряло свою сухость, а простота манеръ принимала характеръ высшей житейской мудрости.
Мы обѣдали въ полѣ и усѣлись или, вѣрнѣе, полулежа расположились вокругъ скромной трапезы; скатерть была разостлана на копнѣ сѣна и мистеръ Борчель оживлялъ всѣхъ своею веселостью. Къ довершенію нашего удовольствія, два черныхъ дрозда звонко перекликались съ одной изгороди на другую, а прирученный снигирь прилеталъ клевать крошки изъ нашихъ рукъ; словомъ, мы были настроены самымъ мирнымъ образомъ.
— Въ такую пору, сказала Софія, — мнѣ всегда приходитъ на память то прелестное стихотвореніе Гэя, гдѣ онъ описываетъ двухъ счастливыхъ любовниковъ, умирающихъ въ объятіяхъ другъ друга. Въ этихъ стихахъ такъ много чувства, что я сто разъ перечитывала ихъ, всегда съ новымъ восторгомъ.
— А по-моему, подхватилъ Моисей, — даже лучшія мѣста этой баллады никуда негодятся въ сравненіи съ «Галатеей» Овидія. Вотъ римскіе поэты дѣйствительно знали толкъ въ контрастахъ и умѣли пользоваться ими для достиженія сильнѣйшихъ эфектовъ, а въ этомъ вѣдь весь секретъ трогательной поэзіи.
— Замѣчательно, сказалъ мистеръ Борчель, — что оба поэта, упомянутые вами, были причиною, что въ ихъ отечествахъ привился вкусъ къ фальшивой напыщенности: у нихъ каждая строка загромождена эпитетами. Зато наименѣе даровитые писатели скоро догадались, что очень легко подражать имъ именно этимъ способомъ, и нынѣшняя англійская литература, такъ же какъ латинская во времена упадка, представляетъ рядъ роскошныхъ картинъ безъ всякаго смысла и содержанія: это просто наборъ словъ, красивыхъ и звучныхъ, но ничего не говорящихъ воображенію. Но вы находите, можетъ быть, что, подвергая другихъ столь строгой критикѣ, я обязанъ дать имъ случай отплатить мнѣ тою же монетой? Согласенъ и сознаюсь, что только затѣмъ и высказалъ эти замѣчанія, чтобы имѣть поводъ прочесть вамъ одну балладу, которая, можетъ быть, тоже плоха, но во всякомъ случаѣ свободна отъ указанныхъ мною недостатковъ.
БАЛЛАДА. «Веди меня, пустыни житель,
Святой анахоретъ;
Близка желанная обитель:
Привѣтный вижу свѣтъ.
Усталъ я; тьма кругомъ густая;
Запалъ въ глуши мой слѣдъ;
Все безконечнѣй степь пустая,
Чѣмъ дальше я впередъ».
— Мой сынъ (въ отвѣтъ пустыни житель),
Ты призракомъ прельщенъ:
Опасенъ твой путеводитель —
Надъ бездной свѣтитъ онъ.
Здѣсь чадамъ нищеты бездомнымъ
Отверзта дверь моя,
И скудныхъ благъ удѣломъ скромнымъ
Дѣлюсь отъ сердца я.
Войди въ гостепріимну келью:
Вотъ, сынъ мой, предъ тобой
И брашно съ жесткою постелью,
И сладкій мой покой.
Есть стадо: но безгрѣшныхъ кровью
Руки я не багрилъ:
Меня Творецъ своей любовью
Щадить ихъ научилъ.
Обѣдъ сбираю непорочный
Съ пригорковъ и съ полей;
Деревья плодъ даютъ мнѣ сочный,
Питье даетъ ручей.
Войди же въ домъ; заботъ мы чужды,
Нѣтъ блага въ суетѣ:
Намъ малыя даны здѣсь нужды;
На малый мигъ и тѣ.
Какъ свѣжая роса денницы
Былъ сладокъ сей привѣтъ;
И робкій гость, склоня зѣницы,
Идетъ за старцемъ вслѣдъ.
Въ дичи глухой, непроходимой
Его таился кровъ —
Пріютъ для сироты гонимой,
Для странника — покровъ.
Не пышны въ хижинѣ уборы,
Тамъ бѣдность и покой;
И скрипнули дверей растворы
Предъ мирною четой.
И старецъ зритъ гостепріимный,
Что гость его унылъ;
И свѣтлый огонекъ онъ въ дымной
Печуркѣ разложилъ.
Плоды и зелень предлагаетъ,
Съ приправой добрыхъ словъ;
Бесѣдой скуку позлащаетъ
Медлительныхъ часовъ.
Играетъ рѣзвый котъ предъ ними,
Въ углу кричитъ сверчокъ,
Трещитъ межъ листьями сухими
Веселый огонекъ;
Но молчаливъ пришлецъ угрюмый,
Печаль въ его чертахъ,
Душа полна прискорбной думой
И слезы на глазахъ.
Ему пустынникъ отвѣчаетъ
Сочувственной тоской:
— О, юный странникъ, что смущаетъ
Такъ рано твой покой?
Иль быть убогимъ и бездомнымъ
Творецъ тебѣ судилъ?
Иль преданъ другомъ вѣроломнымъ?
Или вотще любилъ?
Увы! какъ жалки и презрѣнны
Утѣхи благъ земныхъ!
А тотъ, кто плачетъ, ихъ лишенный,
Еще презрѣннѣй ихъ.
Приманчивъ лести взоръ лукавый:
Но вѣдь она вослѣдъ
Бѣжитъ за счастіемъ, за славой,
И прочь отъ нашихъ бѣдъ.
Любовь — давно слыветъ игрою,
Наборомъ сладкихъ словъ;
Незрима въ мірѣ, лишь порою
Живетъ у голубковъ.
Но, другъ… ты робостью стыдливой
Свой нѣжный полъ открылъ… —
И странникъ очи, торопливо
Краснѣя, опустилъ.
Краса сквозь легкій проникаетъ
Стыдливости покровъ:
Такъ утро тихое сіяетъ
Сквозь дымку облаковъ.
Трепещутъ перси, взоръ склоненный,
Какъ роза цвѣтъ ланитъ…
И дѣву-прелесть изумленный
Отшельникъ въ гостѣ зритъ.
«Простишь ли, старецъ, дерзновенье,
Что робкою стопой
Вошла въ твое уединенье,
Гдѣ Богъ Одинъ съ тобой!
Любовь надеждъ моихъ губитель,
Моихъ виновникъ бѣдъ:
Ищу покоя; но мучитель —
Тоска за мною вслѣдъ.
Отецъ мой знатностію, славой
И пышностью гремѣлъ,
А я была его забавой,
Онъ все во мнѣ имѣлъ.
Стекались рыцари толпою,
Мнѣ предлагая въ даръ
Тѣ — чистый, сходный съ ихъ душою,
А тѣ — притворный жаръ.
И каждый лестью вѣроломной
Привлечь меня мечталъ…
Но въ ихъ толпѣ Эдвинъ былъ скромный;
Эдвинъ, любя, молчалъ.
Ему съ смиренной нищетою
Судьба одно дала:
Плѣнять возвышенной душою,
И та — моей была!
Роса на розѣ, цвѣтъ душистый
Фіалки полевой,
Едва-ль сравниться могутъ съ чистой
Эдвиновой душой.
Но цвѣтъ съ небесною росою
Живутъ одинъ лишь мигъ:
Онъ одаренъ былъ ихъ красою,
Я — легкостію ихъ.
Я гордой, хладною казалась,
Онъ втайнѣ былъ мнѣ милъ.
Увы! любя, я восхищалась,
Когда онъ слезы лилъ!
Несчастный!.. Онъ не снесъ презрѣнья:
Въ пустыню онъ помчалъ
Свою любовь, свои мученья,
И тамъ въ слезахъ увялъ.
Но я виновна: мнѣ страданье,
Мнѣ утопать въ слезахъ,
Мнѣ будь пустыня та изгнанье,
Гдѣ скрытъ Эдвиновъ прахъ.
Надъ тихою его могилой
Конецъ свой встрѣчу я:
Пусть приношеньемъ тѣни милой
Вся будетъ жизнь моя!»
— Мальвина! старецъ восклицаетъ,
И палъ къ ея ногамъ…
О, чудо! ихъ Эдвинъ лобзаетъ,
Эдвинъ предъ нею самъ.
«Другъ незабвенный, другъ единый!
Опять на вѣкъ я твой:
Полна душа моя Мальвиной,
Я здѣсь дышалъ тобой.
Забудь о прошломъ; нѣтъ разлуки,
Самъ Богъ вѣщаетъ намъ:
Отнынѣ, радости и муки,
Все въ жизни — пополамъ.
Ахъ, будь и самый часъ кончины
Для двухъ сердецъ одинъ:
Пусть съ милой жизнію Мальвины
Угаснетъ и Эдвинъ!»[2]
Пока онъ декламировалъ балладу, Софія смотрѣла на него не только одобрительно, но даже съ нѣжностью. Какъ вдругъ наше спокойствіе было нарушено ружейнымъ выстрѣломъ, раздавшимся у самыхъ нашихъ ушей, и вслѣдъ затѣмъ сквозь кусты пробрался человѣкъ съ ружьемъ и подхватилъ убитую имъ дичь. Охотникомъ оказался никто иной, какъ капелланъ мистера Торнчиля, а жертвой его палъ одинъ изъ дроздовъ, только что услаждавшихъ насъ своимъ пѣніемъ. Такой громкій и близкій выстрѣлъ, конечно, перепугалъ моихъ дочерей и я замѣтилъ, что Софія, не помня себя отъ страха, бросилась въ объятія мистера Борчеля, ища защиты. Капелланъ подошелъ къ намъ, извинился, что потревожилъ насъ, и увѣрялъ, будто не зналъ, что мы такъ близко. Потомъ онъ подсѣлъ къ моей младшей дочери и, по обычаю охотниковъ, повергъ къ ея ногамъ всю дичину, настрѣленную въ это утро. Она намѣрена была отказаться отъ подарка, но выразительный взглядъ матери принудилъ ее измѣнить тактику и принять приношеніе, хотя и неохотно. Жена моя, по обыкновенію, возгордилась этимъ обстоятельствомъ и шопотомъ сообщила мнѣ, что капелланъ въ такомъ же восторгѣ отъ Софьи, какъ сквайръ отъ Оливіи. Однакожъ я съ большимъ вѣроятіемъ полагалъ, что привязанность Софіи обращена совсѣмъ въ другую сторону. Капелланъ явился къ намъ собственно по порученію мистера Торнчиля и сообщилъ; что сквайръ намѣренъ сегодня вечеромъ устроить танцы при лунномъ свѣтѣ на лужайкѣ, передъ нашимъ домомъ, и для этой цѣли заказалъ уже и музыку, и угощеніе.