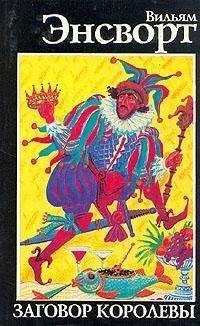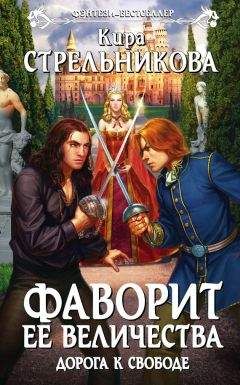Уильям Плоумер - Сын королевы Виктории
– Ты проводишь меня туда? – спросил Фрэнт.
– Проводить тебя? Что ты будешь там делать?
– Хочу увидеть твой дом. Хочу увидеть Серафину.
– Серафины там нет.
– Нет? Где же она?
– Она пошла с отцом и матерью на несколько дней в горы, чтобы повидать наших родичей. Дома остались только старуха и дети.
– Вот как? – сказал Фрэнт и умолк. – Очень жаль, – добавил он затем. – Я хотел повидать Серафину.
И внезапно всё вокруг отодвинулось куда-то вдаль. Ландшафт выглядел, как в стране снов. Серафина (неужели Это действительно ее имя?) казалась лишь игрой воображения, а ее родичи – какими-то мифическими существами. И даже дружелюбно улыбавшийся Умлилвана сделался вдруг чуждым и недоступным.
– Да, мне очень жаль, – угасшим голосом повторил Фрэнт. – Но мне всё же хотелось бы как-нибудь навестить вас и сфотографировать Серафину… и всю вашу семью.
Умлилвана отнесся к этому несколько подозрительно, но сказал, что они будут рады видеть Фрэнта.
– Можешь ты исполнить мою просьбу? – сказал Фрэнт. – Сообщи мне, когда Серафина вернется. Скажи Серафине, что я хочу видеть ее. Скажи ей, что я хочу ее снова видеть.
– Ол райт, – очень вежливо ответил Умлилвана по-английски. Этим почти исчерпывался его запас английских слов.
– Умлилвана, ты – мой друг.
– Ол райт! А ты дашь мне сигарету?
Фрэнт улыбнулся и отдал ему всё, что у него было с собой. Умлилвана рассыпался в благодарностях.
Видно было, как возле крааля Серафины играли дети. Они казались не больше муравьев. Далекие горы выглядели бесконечно голубыми и неприступными; тени легких обликов разузорили их вершины. Фрэнту оставалось только вернуться в Мадумби.
9
Фрэнт вернулся в Мадумби. А через два дня вернулись и Мак-Гэвины, всё еще не избавившись от праведного негодования на Фрэнта за то, что он «из каприза» отказался поехать вместе с ними, а миссис Мак-Гэвин – приобретя к тому же острое расстройство желудка. И снова жизнь вошла в обычную колею. Но кое-что всё же изменилось. Фрэнт теперь был куда веселее. Ведь он не только проявил некоторую инициативу, не только видел дом Серафины и заручился дружбой ее брата, но и поведал ему о своей любви. Когда она вернется, он доведет это дело до конца, пусть даже они с ней «разные». И хотя затянувшееся отсутствие Серафины испытывало его терпение, всё же он каждое утро вставал в надежде, что сегодня явится Умлилвана с вестью о ней. Однако день шел за днем, а Умлилвана не появлялся. Фрэнт подумывал уже было отправить ему послание, но, так как оно могло быть только устным, решил, что благоразумнее отказаться от этой мысли. А когда он однажды рискнул осведомиться об Умлилване, чтобы узнать, действительно ли он брат Серафины, оказалось, что те, с кем он говорил, не слыхали ни о нем, ни о ней. По ночам он лежал, скинув всё до последней нитки, обливаясь потом, терзаясь мукой при мысли о Серафине, вспоминая ее движения, ее «печальную красу», сладость прикосновения к ее телу.
– Фрэнту следовало поехать с нами, – заметил Мак-Гэвин жене. – У него временами определенно разливается желчь.
– От такой погоды у кого угодно желчь разольется, – отозвалась она. – Я всегда говорила, что январь – худший месяц в году. Самая вредная для печени пора. Но, по-моему, у него не в порядке нервы, а не печень.
Спору нет, январь всегда был плохим месяцем в Мадумби, но в этом году он казался особенно мучительным. Уже много недель не выпадало дождя, и вся природа томилась от жажды. Стояла сухая, изнуряющая жара. А затем по утрам стали собираться тучи, к полудню они затягивали всё небо, изредка гремел гром, а раз даже несколько капель упало на пыльную землю, словно плевок дьявола откуда-то с недосягаемой высоты. Каждое утро сулило грозу, и Фрэнт представлял себе, как будет пахнуть напоенная дождем земля, каким прохладным станет воздух, как в сумерках появятся летучие муравьи, но каждый вечер тучи рассеивались и на вельд[9] свирепо смотрели надменно сверкающие звезды или раскаленная луна. Утром Фрэнт говорил себе: «Умлилвана придет сегодня, а может, и сама Серафина», – но вечер заставал его в одиночестве, измученного, не находящего себе места. Даже туземцы стали ссориться друг с другом, – засуха грозила их посевам. Воздух, казалось, источал электричество, и все нервы, утомленные долгим напряжением, были натянуты, как струна, в ожидании грозы, которая всё не разражалась.
Уже и Мак-Гэвин стал всё чаще поглядывать на небо – на большие кучевые облака, нависавшие днем над Мадумби. «Если в ближайшие дни ничего не изменится, дело плохо», – говорил он.
Так ждут землетрясения, революции, судного дня. Ужасно предвидеть неизбежное и не знать, когда оно произойдет. «Нам нужна только одна гроза, чтобы очистить воздух», – каждый день повторяла миссис Мак-Гэвин, и Фрэнт чувствовал, что готов ее убить. Пот струйками сбегал у него по спине, перегретая кровь воспламеняла чрезмерно возбужденное воображение, он всё хуже спал и ел. Торговля почти замерла, мало кто мог теперь одолеть крутой подъем к Мадумби, а когда лавка пустовала, было еще тяжелей. Солнце уже с утра накаляло рифленое железо, и в помещении не только днем, но даже и ночью стояла немыслимая жара. До фактории доходили слухи о том, что от солнечных лучей, собранных в фокус пустой бутылки, вспыхнула трава и сгорело несколько хижин; что молодой крокодил поднялся по одному из притоков Умгази и его нашли менее чем в миле от Мадумби, – происшествие, ранее не слыханное; что арестована женщина туземка, которая, родив шестипалого младенца, тут же убила его, думая, что это уродство отгоняет дождь.
Где Умлилвана? Где Серафина? «Я подожду до воскресенья, – сказал себе Фрэнт, – и, если до тех пор никто из них не придет, я сам отправлюсь в крааль, под предлогом, что хочу сфотографировать их». Но ему не пришлось ждать до воскресенья, так как погода вдруг переменилась.
Самым тяжелым было четырнадцатое число.
– Ну, хуже дня еще не бывало, – заявила за ужином миссис Мак-Гэвин.
– Ты говоришь это вот уже четвертый день, – заметил ей муж.
Все двери и окна были распахнуты настежь. Небо до горизонта обложили тучи, всё замерло, только мотыльки, залетая из сада, бились о бумажный абажур и стекло картины или падали в суп, и пыльца с их крылышек смешивалась с пленкой жира. Лампа освещала вьющиеся растения на веранде и дорожку, но дальше была всепоглощающая тишина и знойный тяжелый мрак.
– Тсс! Кажется, гром?! – воскликнула миссис Мак-Гэвин.
– Ты всегда говоришь так за ужином, – отозвался муж.
– Всё-таки это гром, – сказала она, склонив голову набок и откидывая с уха выбившуюся прядь волос.
Да, действительно, прокатился гром. Они все его услышали. Глухой, долгий раскат грома.
– Это в горах, – сказал Мак-Гэвин. – Плохо, когда начинается там. Если на самом деле разразится гроза, она может пройти стороной… Ага, вы видели молнию? Да, это в горах. Бьюсь об заклад, там уже льет, как из ведра. Не люблю я грозы без дождя. Это куда опаснее. Молния может зажечь дерево.
У Фрэнта громко и часто билось сердце, словно в предчувствии какой-то лично его касающейся, а не метеорологической катастрофы. Он ушел в сад и стоял там, наблюдая За игрой молний вдали: казалось, они сверкали не чаще, чем в предыдущие ночи. Потом он вернулся в дом и попытался читать; закурил одну за другой несколько сигарет и бросил их недокуренными; бродил, как неприкаянный, по саду, вглядываясь в темноту; наконец ушел к себе в комнату и, не раздеваясь, кинулся на кровать. Кулаки его были крепко сжаты, ногти впивались в ладони. Он ничего не чувствовал, кроме ударов своего сердца. Он не слышал голосов Мак-Гэвинов и туземцев и потерял всякое ощущение времени. Он потушил свет и лежал, обливаясь потом, как узник, не виновный в преступлении, в тюрьме без запоров, приговоренный на неизвестный ему срок.
Наконец Фрэнт встал и подошел к окну. Снова вышла луна. Почти полная, она висела высоко в небе, заливая всё вокруг потоками света. На юге над лесом огромными грядами тянулись тучи; по временам там пробегала змейка молнии, за которой следовал приглушенный раскат грома. Казалось, ни один лист не шелохнется, но тут Фрэнт заметил, что поднимается легкий ветерок и треплет вдали верхушки деревьев. Вскоре закланялись мимозы подле дома, простирая ветви к луне, и по траве пробежала дрожь, словно ее погладила невидимая рука. Ветер посвежел, тучи вздымались всё выше, громоздясь друг на друга; луна запуталась в прозрачной паутине летучего тумана, всё сильнее гремел гром, всё чаще сверкали молнии. Луна словно истекала зеленоватым светом, и по мере того как небо наливалось тяжестью, лес, по контрасту, становился всё более воздушным; густой кустарник и стволы огромных деревьев были отчетливо видны – сухие, светящиеся и зловещие; на верхних ветвях уже начали вспениваться и медленно корчиться листья. Тревожное ожидание, охватившее землю и небо, и то, как вся природа – даже дома и их тени – вступала в грандиозную симфонию надвигавшейся грозы, создавало картину столь драматическую, что трудно было поверить в ее реальность.