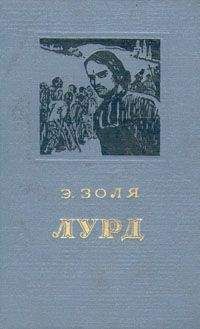Эмиль Золя - Собрание сочинений. Т. 17. Лурд
Пьеру вспомнился один вечер. Лампы еще не зажигали. Он сидел возле Марии в темноте, и вдруг она сказала, что хочет поехать в Лурд, она уверена, что вернется оттуда исцеленной. Ему стало не по себе; забывшись, он назвал безумием веру в такие ребяческие бредни. В разговорах с Марией Пьер никогда не касался религии, отказавшись не только быть ее духовником, но даже разрешать невинные сомнения набожной девушки. В нем говорили целомудрие и жалость, ей он не мог лгать, а с другой стороны, он чувствовал бы себя преступником, если бы хоть немного омрачил огромную, чистую веру, в которой Мария черпала силу, помогавшую ей переносить страдания. Сильно взволнованный, он упрекал себя за невольно вырвавшиеся слова, как вдруг маленькая холодная ручка коснулась его руки; ободренная темнотой, Мария тихонько, надломленным голосом решилась открыть ему, что знает его тайну, — она догадалась о его несчастье, ужасной муке неверия, непереносимой для священника. Он сам невольно все поведал ей в их беседах, а она с интуицией больного человека, дружески расположенного к нему, проникла в самую сокровенную глубину его совести. Она страшно беспокоилась за него, она жалела его больше, чем себя самое, сознавая терзавший его смертельный недуг. А когда пораженный Пьер не нашел ответа, подтверждая своим молчанием истину ее слов, Мария снова заговорила о Лурде, добавив шепотом, что хотела и его поручить святой деве, умолить ее вернуть ему веру. С этого вечера Мария то и дело упоминала о Лурде, повторяя, что вернется оттуда исцеленной. Но ее останавливал вопрос о деньгах, и она даже не решалась заговорить об этом с сестрой. Прошло два месяца, Мария слабела с каждым днем; ее одолевали мечты, и взор ее обращался туда, к чудодейственному сияющему Гроту.
Для Пьера настали тяжелые дни. Сперва он наотрез отказался сопровождать Марию, Потом он стал колебаться, ему пришло в голову, что он может с толком использовать время, потраченное на путешествие, и собрать сведения о Бернадетте, чей пленительный образ жил в его сердце. Наконец, он проникся сладостным чувством, неосознанной надеждой, что, быть может, Мария права и святая дева сжалится над ним, вернет ему слепую веру, невинную веру ребенка, который любит не рассуждая. О, верить, всей душой погрузиться в религию! Какое невероятное счастье! Он стремился к вере со всем пылом молодости, со всею силой любви к умершей матери, со жгучим желанием избавиться от мук познания, уснуть навеки в божественном неведении. Какая дивная надежда и сколько малодушия в этом стремлении обратиться в ничто, отдаться всецело в руки бога!
Так у Пьера родилось желание сделать последнюю попытку.
Через неделю вопрос о поездке в Лурд был решен. Но Пьер потребовал созвать консилиум, чтобы узнать, можно ли перевозить Марию, и тут ему вспомнилась еще одна сцена, его упорно преследовали некоторые подробности, тогда как другие уже стерлись из памяти. Двое врачей, давно пользовавших больную, — один, констатировавший разрыв основных связок, другой — паралич, вследствие поражения спинного мозга, — сошлись во мнении, что у Марии паралич и, возможно, некоторые нарушения со стороны связок; все симптомы были налицо, случай казался им настолько ясным, что они, не задумываясь, подписали свидетельства с почти одинаковым диагнозом. Они считали путешествие возможным, хотя и крайне тяжелым для больной. Это заставило Пьера решиться, так как они казались ему очень осторожными, очень добросовестными в своем желании выяснить истинное положение вещей. У него сохранилось смутное воспоминание о третьем враче, Боклере, его дальнем родственнике, пытливом молодом человеке, но малоизвестном и имевшем репутацию чудака. Он долго смотрел на Марию, интересовался ее родственниками по восходящей линии, внимательно выслушал то, что ему рассказали о г-не де Герсене, архитекторе-изобретателе, преувеличенно впечатлительном и бесхарактерном; затем он измерил зрительное поле больной, незаметно, путем пальпации, выяснил, что боль локализовалась в левом яичнике и при нажиме подступала к горлу тяжелым клубком, который душил девушку. Он не придавал никакого значения диагнозу своих коллег о параличе ног. И на прямой вопрос горячо ответил, что больную надо везти в Лурд, она непременно исцелится, раз в этом уверена. Он говорил о Лурде вполне серьезно, — прежде всего необходима вера; две его пациентки, глубоко верующие, которых он послал в прошлом году в Лурд, вернулись совершенно здоровыми. Он даже предсказал, как произойдет чудо: это будет молниеносно, больная очнется после состояния сильнейшего возбуждения, и адская боль, которая мучит девушку, вспыхнув в последний раз, внезапно исчезнет, словно вырвавшись наружу с ее дыханием. Но врач решительно отказался дать письменное свидетельство. Он расходился в мнении со своими коллегами, а они очень холодно отнеслись к его молодому задору; Пьер смутно припоминал отдельные фразы спора, обрывки высказываний Боклера на совещании врачей: вывих с легкими разрывами связок вследствие падения с лошади, затем медленное восстановление пораженных связок; а позже возникли уже нервные явления, больная под впечатлением первоначального испуга не переставала думать о своем недуге, все ее внимание сосредоточилось на пораженной точке, и боль стала усиливаться; только сильный толчок, какое-нибудь исключительное потрясение может вывести ее из этого состояния. Впрочем, он допускал неправильный обмен веществ, однако вопрос этот был еще мало исследован, поэтому он не решался установить значение этого фактора. Но мысль, что болезнь Марии воображаемая, что ужасные страдания, мучившие ее, были следствием давно вылеченного повреждения, показалась Пьеру до того парадоксальной, что он даже не придал ей значения, — ведь он видел девушку умирающей, видел ее безжизненные ноги. Его только радовало, что все трое врачей считали возможной поездку в Лурд. Достаточно было сознания, что Мария может поправиться, — и он готов был сопровождать ее на край света.
Ах, в какой суматохе провел он последние дни в Париже! Скоро должно было начаться всеобщее паломничество. Пьеру пришла в голову мысль просить попечительство госпитализировать Марию, чтобы избежать лишних расходов. Затем ему пришлось немало похлопотать, чтобы его самого приняли в попечительство Богородицы Всех Скорбящих. Г-н де Герсен был в восторге; он любил природу и горел желанием видеть Пиренеи; он ни о чем не заботился, не возражал, чтобы молодой священник взял на себя дорожные расходы, оплату гостиницы в Лурде, словом, ухаживал бы за ним, как за малым ребенком; а когда Бланш в последнюю минуту сунула отцу луидор, он счел себя богачом. Бедная, доблестная Бланш скопила пятьдесят франков, пришлось взять их, иначе она бы обиделась: ей тоже хотелось содействовать выздоровлению сестры, а сопровождать ее она не могла; итак, она осталась в Париже, чтобы бегать по урокам из конца в конец города в то время, как ее родные будут преклонять колена в чудодейственном Гроте. Они уехали. И поезд все мчался и мчался вперед.
На станции Шательро внезапный гул голосов встряхнул Пьера, оторвав его от мечтаний. Что случилось? Разве уже приехали в Пуатье? Но был только полдень, и сестра Гиацинта возвестила чтение «Angelus», состоящего из трех троекратно повторяемых молитв богородице. Голоса то затихали, то опять звучали, начиная новое песнопение, изливаясь в длительной жалобе. Еще добрых двадцать пять минут — и будет получасовая остановка в Пуатье; это хоть немного облегчит страдания. Как было тяжело, как ужасно качало в зловонном, жарком вагоне, сколько горя! Крупные слезы катились по щекам г-жи Венсен, глухое проклятие вырывалось у г-на Сабатье, обычно такого сдержанного, а брат Изидор, Гривотта и г-жа Ветю казались безжизненными, бездыханными, как обломки корабля, уносимые волной. Мария молча лежала с зажмуренными глазами и не хотела их открывать; ее преследовало, как призрак, страшное лицо Элизы Руке с зияющей язвой, — оно казалось воплощением смерти. И пока поезд, ускоряя ход, под грозовым небом по пылающим от зноя равнинам уносил все это людское горе, среди пассажиров снова поднялась паника. Больной в углу перестал дышать, кто-то крикнул, что он кончается.
IIIКак только поезд остановился в Пуатье, сестра Гиацинта заторопилась к выходу, проталкиваясь сквозь толпу поездной прислуги, открывавшей двери, и паломников, спешивших покинуть вагон.
— Подождите, подождите, — повторяла она. — Дайте мне пройти первой, я должна посмотреть: неужели все кончено?
Войдя в соседнее купе, она приподняла голову больного и, увидев его смертельно бледное лицо и безжизненные глаза, подумала сперва, что он действительно умер. Но он еще дышал.
— Нет, нет, он дышит. Скорее, надо торопиться! — И, обратившись ко второй сестре, которая была на этом конце вагона, сказала: — Прошу вас, сестра Клер Дезанж, сбегайте за отцом Массиасом, он, должно быть, в третьем или четвертом вагоне. Скажите ему, что у нас здесь тяжелобольной, пусть сейчас же принесет освященный елей.