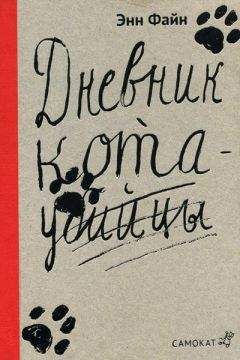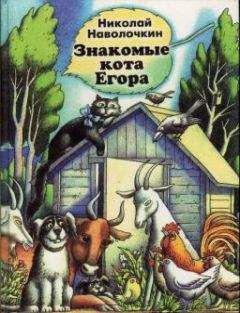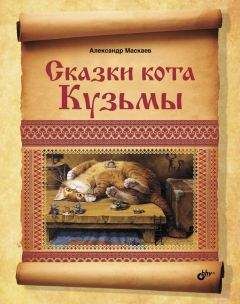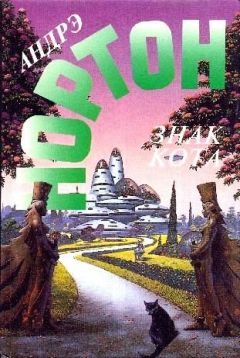Генри Джеймс - Мадонна будущего. Повести
Очевидно, я заслонил собою свет. Уронив макаронину себе в рот, хозяйка порывисто поднялась, сказав что-то резкое по моему адресу и густо покраснев. Я мгновенно сообразил, что проникнуть в тайну синьоры Серафины имеет даже больший смысл, чем я предполагал, а для этого необходимо сделать вид, будто все происходящее само собой разумеется. Я призвал на помощь все известные мне галантные итальянские выражения, я улыбнулся, и поклонился, и рассыпался в извинениях за вторжение. Не знаю, сумел ли я рассеять досаду синьоры Серафины, но, по крайней мере, напомнить ей о приличиях мне удалось. Она тотчас сказала, что рада меня видеть, пригласила присесть и с улыбкой — почти сердечной — представила мне еще одного своего друга, тоже художника. Ее сотрапезник обтер усы и почтил меня любезнейшим поклоном. С первого взгляда было видно, что он правильно оценивает обстановку. Несомненный автор расставленных на столе фигурок, он умел распознать при встрече тороватого forestiere[21]. Сам он был коренастый, жилистый мужчина с умным нагловатым носом retroussé[22], пронзительными черными глазками и нафабренными усами. Голову его украшала алая бархатная феска, лихо надетая набекрень, а ноги покоились в расшитых блестками домашних туфлях. Как только Серафина назвала меня другом мистера Теобальда, он разразился целой речью на невообразимом французском языке, на который так легко переходят итальянцы, и с жаром провозгласил, что у мистера Теобальда замечательный талант.
— Право, не знаю, — сказал я, пожав плечами. — Вы, верно, счастливее меня, коль скоро можете это утверждать. Я не видел ни одной картины, написанной его рукой, — кроме bambino, поистине прекрасной работы.
Он тут же объявил bambino шедевром, чистым Корреджо. Жаль только, добавил он, что набросок сделан не на настоящей старой доске. Но тут вмешалась синьора Серафина. Мистер Теобальд, возразила она, сама честность и никогда не пошел бы на обман.
— Не могу судить о его таланте, — сказала она, — я в картинах ничего не смыслю. Где мне — бедной простой вдове. Но о синьоре Теобальде скажу: он сердцем ангел, а душою чист как святой. А мне он — благодетель! — добавила она наставительно.
Отсветы зловещего пожара, вспыхнувшего при моем появлении, еще рдели у нее на лице и, по правде сказать, вовсе ее не красили. Я не мог не признать мудрой привычку Теобальда видеть свою даму при свечах: красота Серафины была груба, а он, бедный ее поклонник, был поэтом.
— Я высоко чту мистера Теобальда, — сказал я. — Вот почему меня так тревожит его долгое отсутствие: мы не виделись десять дней. А вы с ним виделись? Уж не заболел ли он?
— Заболел? Упаси Господь! — воскликнула Серафина с неподдельным чувством.
Ее сотрапезник сердито фыркнул и принялся выговаривать ей: могла, дескать, и навестить страждущего. Некоторое время Серафина в нерешительности молчала, затем, жеманно улыбнувшись, возразила:
— Когда он приходит ко мне — тут нет ничего зазорного. Но если я пойду к нему — это уж будет совсем другое, пусть даже все знают, что он живет как святой.
— Он относится к вам с большим восхищением, — сказал я, — и почел бы за честь, если бы вы навестили его.
Она метнула в меня острый взгляд.
— Да уж. С бо́льшим, чем вы, сэр. Что греха таить!
Я, разумеется, стал убеждать ее в обратном, призвав на помощь все свое красноречие, и синьора Серафина призналась, что в прошлое мое посещение я не возбудил у нее симпатии и, когда Теобальд вдруг исчез, она решила — не иначе как я отравил его душу наветами на нее.
— Плохую бы службу вы ему сослужили, можете мне поверить, — сказала она. — Мы с ним давние друзья. Никто не знает его, как я. Много лет он приходил сюда из вечера в вечер.
— Я и не утверждаю, что знаю его, тем паче понимаю: он для меня загадка! К тому же он, кажется, немного… — И я поднес пальцы ко лбу, а затем покрутил ими в воздухе.
Серафина перевела взгляд на своего приятеля, словно в надежде получить подсказку. Но он только пожал плечами и наполнил до краев стакан. Тогда синьора повернулась ко мне со сладкой вкрадчивой улыбкой, какую меньше всего можно было ожидать на столь чистом открытом челе.
— Вот за это я и люблю его! — провозгласила она. — Люди не жалеют таких, как он. Потешаются над ними, презирают их и обманывают. Он слишком хорош для нашей грешной жизни. Это он сам решил, что здесь, в моем скромном жилище, нашел свой рай. Ну а если ему так кажется, я-то тут при чем? У него засело в голове — право, и сказать-то как-то неловко, — будто я похожа на Пречистую Деву, да простит мне Господь! Ну и пусть так думает, коли ему угодно. Он меня когда-то пожалел, а я не из тех, кто не помнит добра. Вот я и привечаю его каждый вечер, спрашиваю о здоровье и позволяю глядеть на себя с разных сторон. На этот счет скажу без хвастовства: было когда-то на что поглядеть! Он, бедняжка, даже занять меня не умеет! То сидит часами, слова не вымолвит, а другой раз, напротив, — говорит без умолку: об искусстве да о природе, о красоте, и долге, и еще о сотне всяких вещей, в которых я ничего не смыслю. Только извольте заметить, он ни разу не сказал ничего такого, что женщине неприлично было бы выслушать. Может быть, у него мозги и набекрень, так ведь он все равно что святой.
— Ну да, — подтвердил ее сотрапезник. — У святых мозги всегда набекрень.
Серафина, надо полагать, утаила часть своей истории, но сказала достаточно, чтобы в свете ее слов признания самого Теобальда показались мне щемяще трогательными в их возвышенной простоте.
— Странная, конечно, мне выпала судьба, — продолжала Серафина, — иметь другом такого человека, как он, — другом, который меньше, чем любовник, и больше, чем друг.
Я взглянул на ее приятеля, он сидел с непроницаемой улыбкой и пощипывал кончики усов, не забывая при этом набивать себе рот. Ну а этот — этот меньше, чем любовник?
— Ничего не поделаешь, — разливалась Серафина. — В нашей трудной жизни лучше не задавать слишком много вопросов, брать то, что перепадает, и сохранять то, что есть. Я сохраняю верность нашей дружбе вот уже двадцать лет и надеюсь, синьор, вы пришли сюда не с тем, чтобы настроить моего благодетеля против меня.
Я заверил ее, что не питаю подобных намерений — напротив, мне было бы жаль нарушить привычки и убеждения мистера Теобальда. Я очень тревожусь за него и хотел бы тотчас отправиться его разыскивать. Серафина дала мне адрес, присовокупив многословные излияния о том, как тяжело ей так долго не видеть любезного мистера Теобальда. А не пошла она к нему по тысяче причин, главная из которых та, что боялась его рассердить: он всегда так упорно держал в тайне место, где квартирует.
— Ну, можно было послать к нему этого джентльмена, — осмелился я дать запоздалый совет.
— Хм! — усмехнулся упомянутый джентльмен. — Мистер Теобальд, конечно, в восхищении от синьоры Серафины, но вряд ли будет в восхищении, увидев меня. — И, приставив палец к носу, произнес: — Он пурист!
Я собрался было удалиться, пообещав синьоре сообщить о здоровье нашего друга, когда ее приятель, который уже успел встать из-за стола и приготовиться к решительной атаке, мягко взял меня под руку и подвел к расставленным в ряд статуэткам.
— Из ваших речей, синьор, я понял, что имею дело с ценителем искусств. Позвольте же привлечь ваше милостивое внимание к скромным плодам моего мастерства. Фигурки эти — новы-новехоньки, только что вышли из моих рук и еще не выставлялись напоказ. Я принес их сюда на суд синьоры Серафины: она превосходный судья, даром что говорит о себе обратное. Этот оригинальный жанр — мое личное изобретение: тема, манера, материал — словом, все-все. Потрогайте их, прошу! Возьмите в руки, не бойтесь! Они хрупки на вид, но разбить их невозможно! Мои изделия — самые разные — всегда пользовались огромным успехом. Особенно у американцев. В Европе тоже на них большой спрос: я посылаю их в Лондон, Париж, Вену! Возможно, вы уже видели некоторые образцы — в Париже на Бульварах есть лавка, где только ими и торгуют. У витрины всегда толпится народ. Мои статуэтки — прекрасное украшение каминной полки в кабинете jeune homme elegant[23], будуара jolie femme[24]. Лучший подарок другу, с которым приятно обменяться невинной шуткой. Это не классическое искусство. Но, между нами говоря, классическое искусство всем порядком надоело. До сих пор карикатура, сатирический гротеск — la charge, как говорят французы, — встречались только на бумаге и выполнялись пером и карандашом. А я давно уже мечтал облечь их в пластические формы. Для этой цели я изобрел особую смесь, состав которой, с вашего позволения, не стану разглашать. Это мой секрет, синьор! Попробуйте — они легки, как пробка, но прочны, как алебастр. Не скрою, я не меньше горжусь этой маленькой удачей в изобретательстве по части химии, чем другим своим новшеством — моими типами. Что вы скажете о них, синьор? Не правда ли, идея смела! Надеюсь, и удачна, на ваш взгляд! Коты и обезьяны, обезьяны и коты — в них вся человеческая жизнь. Человеческая жизнь, я разумею, увиденная глазами сатирика. Мне давно хотелось, синьор, совершить небывалое: соединить ваяние с сатирой. Льщу себя надеждой, что мне это в какой-то мере удалось.