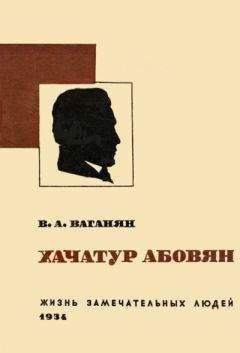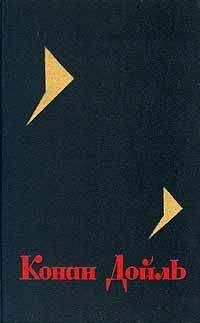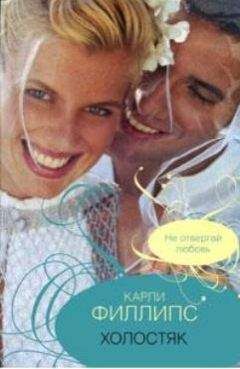Хачатур Абовян - Раны Армении
Холодная вьюга с горных высот, свирепый ветер из ущелий, почуяв такую волю, так стали завывать, дуть, мести и взвихривать снежную пыль, что у путника коченели нос и губы и кожа трескалась. Они раздирали несчастному лицо, били его без устали по голове, по щекам, забивали ему глаза и рот. Многих сбрасывали в ущелья, где они и погибали. Иных, бездыханных, погребали под снегом, других сгоняли в сторону с дороги, с одеревеневшими ногами и головой закидывали куда-нибудь в горы или долины и душили там, либо швыряли их умирать на острые камни.
В такой-то лютый зимний день, лишь только свет отделился от тьмы и восток зарделся зарей, канакерцы[33] проснулись, встали, пооткрыли ердыки, умылись, перекрестились раза два, пожелали друг другу доброго утра, накрыли чем попало еще спящих детей и отправились каждый по своим делам.
Старики, расчесывая на ходу бороды и перебирая четки, старухи с чадрами под мышкой не спеша вышли из домов и, читая «Отче наш» или бормоча под нос «Отрекаемся» либо «Исповедуем», издали друг с другом здороваясь, многие с ковриками или шкуркой в руках, чтобы на пол под себя подостлать, — тесной гурьбой подошли к церкви и облобызали дверь. Пришли так рано, что и попа еще в храме не было; сказали звонарю, чтоб ударил в колокол, сами же, отвесив несколько земных поклонов, разостлали друг подле друга свои коврики — мужчины перед алтарем или между колоннами, женщины позади, — потом стали на колени и, принаклонясь друг к другу, начали беседовать про свои дела: что на селе да как дома, справляться взаимно о здоровье, пока наконец не пришел поп. Зажгли свечи, лампады, — где не было масла — пономарь подлил. Потом он накинул на попа ризу и в ожидании, когда явятся второй пономарь и дьячки, тоже положил несколько земных поклонов, стал на колени, пропел псалом, сотворил молитву, оглядел хорошенько всех пришедших — у кого осведомился о здоровье, с кем потолковал о том, о сем — и стал глаза протирать, пока народу не наберется побольше. Второй пономарь пришел, прочитали «Отрекаемся», причем головы накрыли шапками, а лицом обратились на запад; потом снова повернулись к востоку: начали «Верую», «Грешен», еще раз ударили в колокол.
Где не было колокола, там звонарь поднялся на крышу, на кизячный стожок, покричал оттуда, и обедня началась.
Поп с дьячком служили, народ клал земные поклоны; люди крестились, становились на колени, присаживались, а усердный, расторопный пономарь то подрезал свечной фитиль, то затеплял лампаду или же, почесывая себе бороду, потирая лысину и позевывая, сновал взад и вперед по храму, либо заправлял кадило или хлопал по голове ребят, чтоб смирно стояли, не поднимали шума и не перебегали с места на место. Время от времени он доставал из кармана табакерку, встряхивал, сначала нюхал сам, чихал, крестился или же проклинал дьявола, потом, в знак уважения, угощал кое-кого из знатных сельчан, степенно отходил и снова важно, чинно возвращался на свое место, либо же исполнял приказания священника.
Между тем молодые парни, свободные от летних занятий, — зимой тебе ни косить, ни молотить, ни сад прокапывать, ни лозу обрезать, ни солому возить не надо, — потянулись разок-другой, потерли глаза и, еще не совсем стряхнув с себя сон, пошли в хлев задать сена скотине и лошадям, убрать под ними, а потом свести на водопой, почистить коней скребницей да привести с песнями обратно, привязать и идти в дом.
Стыдливые молодки, подтянув до полноса шелковый, золотом расшитый ошмаг, спустив край лачака ниже глаз так, что лица их вовсе оказывались невидимыми, надев шелковую или синего холста минтану, нарядившись в канаусовую или полотняную сорочку, вчетверо или впятеро обмотав вокруг талии широкий кушак, — легко и проворно, словно пташки, слегка попрыскали на лицо водицей, утерлись полою, и одна стала подметать пол, другая убирать двор, а третья уже высекла огонь из кремня, чтобы затопить тондыр и, заготовив что надо, расставить котлы и приготовить пищу.
А молодые девушки дома расчесали себе волосы, заплели косы, закинули их за спину, надели остроконечные шапки с красным верхом, повязали уши, накинули на плечи полотенца, положили на них кувшины с заткнутым горлышком и пошли за водою для дома, потом, наговорившись друг с другом у воды, возвратились каждая к себе, опять-таки друг с другом по дороге беседуя и смеясь.
Солнечный луч проник в дом. Борей свистел, жужжал; вьюга шипела, пыхтела, выла, забрасывала снег через окна, через ердык, набивала им глаза и уши.
Дети встали, впросонках расселись рядышком вокруг тондыра и, еще неумытые, топотали ногами о камень, о землю, лезли с кулаками на матерей, требуя хлеба.
Черный, густой дым кизяка застилал входную дверь и ердык, обращая дом в целое дымное море, — глаз человеческий ничего различить не мог. Плач и хныканье детей выводили из терпенья, от них сверлило голову. Тот ревел в колыбели, тот кричал под одеялом, с глазами и ртом полными дыма. Иные, не довольствуясь полученным куском, хныкали; и клянчили еще, — авось, дадут, чтоб замолчали!
Бедная хозяйка не знала, чей рот рукой закрыть, чей насытить жадный глаз, а сама то откроет глаза или рот, то закроет, — совсем из сил выбилась. Сколько она наглоталась дыма, сколько нанюхалась табаку! — чихала и кашляла так, что сердце к самому горлу подкатывало. Столько терла она глаза свои, столько лила горючих слез, что вовсе почти ослепла.
Столько топталась она из угла в угол, сгорбленная, словно в куриной слепоте, что не могла уже спины разогнуть. А тондыр все истовей разгорался. Котлы кипели, клокотали. Она еще разок прошлась веником вокруг тондыра, навела чистоту, потом попробовала кушанья, посолила и стала ждать, когда ее домашние придут из церкви.
Но бог смилостивился: дым разошелся, ветер притих, кто по воду пошел — вернулись; и парни собрались, и солнце уже поднялось на добрую сажень, — но пока не пришли из церкви, пока не произнесли приветствия «Господи, помилуй», никто из домашних не смей и кроху малую взять в рот!
Еще восьми не было в то время, о котором я веду речь.
— Эх! то уж не заутреня для нас получается, а, по правде сказать, ослиная свадьба!.. — заговорил Агаси, старшой Оганеса[34], сельского старосты, и, раз открыв рот, стал бормотать про себя, ворчать, что оседлал, мол, своего серого, приготовился выехать на сегодняшнюю джигитовку, собирался наскоро закусить чем попало, вскочить на коня и поскакать с такими же парнями, как он сам, — погулять с ними, как им по душе.
Чего тянут без толку, будь они неладны, жилы вытягивают? Положил два-три поклона земных, перекрестился разочка два, и готово: облобызай церковную дверь — да и домой, займись каждый своим делом.
И зачем это нужно? — вцепились в церковь, как в конский хвост, не дождешься, — а ты знай, рот открывай да закрывай, пока не скажут тебе: «Будьте благословенны», — тогда и хлеба отведывай. Вот тебе крест, эти старики да старухи, чем старше становятся, тем у них разума меньше. Хочешь сердись, хочешь — воду студеную пей. Хоть помри, а дожидайся, когда отмолятся, придут, скажут: «Господи, помилуй» — тогда еще, может, кой-чего перепадет. Не глядели бы глаза, все нутро сохнет. Ведь нынче и жертву не резали, стало быть, и с паперти не раздают — есть еще смысл там канителиться, ежели б хоть глаз чему-нибудь порадовался, рот бы хоть вкус мясного почуял, нос бы его запах нюхнул…
Попы сегодня что-то больно ретивы — им разве дело, что волк овцу утащил? Меры не знают: хорошо ли, плохо ли, — знай, мелют, а не то чтобы приподнять рычажок, — зерно-то и посыпалось бы, глядишь, поскорей, — и каждый бы уж дома был.
Им и в голову не приходит, какой нынче день. И кто это установил такие порядки? Будь помянут добром отец его, а про самого что сказать? — видно, вместо хлеба он сено жевал, вот оно что!..
Животы подвело — вишь как урчит, — а ты все ж таки жди, томись, пока служба отойдет и наступит для брюха пай небесный…
— Да ну тебя совсем! Что с тобой? Лучше потерпел бы немножко да придержал язык! Чего ты с самого утра ему волю даешь? Авось, в животе у тебя не пожар, не сгоришь, не испечешься! — сказала мать, сердясь. — Точно весь мир разграбили, а ты остался ни с чем, все на свете пропало а ты один остался. А мы, по-твоему, не люди? Нас, по-твоему, не бог создал? Из земли мы что ли выросли? Ох-ох-ох-ох!.. Нынешние парни вовсе с ума сошли, на привязи держать их надо. Старших не уважают, не ценят ни веры святой, ни могущества церкви божией, ни молитвы. Бог за то на нас и разгневался, оттого и сыплются на нас беспрестанные бедствия. Каждый своего коня погоняет. Еще молоко на губах не обсохло, ходить еще не умеет, а уж ногу закидывает, — нет, не потерпит этого бог. Встал с постели, так перво-наперво бога прославь, осени лицо свое крестным знамением, о душе помысли, а потом и делай, что хочешь. Авось, с этого не треснешь. Та, та, та… Избави бог от нынешних детей. Позволь им, — так они весь мир разрушат. Хорошо еще, бог терпит такое беззаконие. Будь я на его месте, не потерпела бы!..