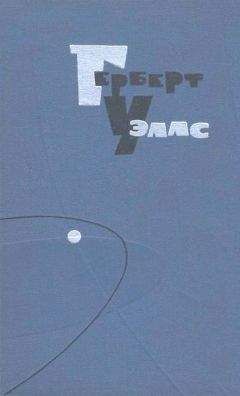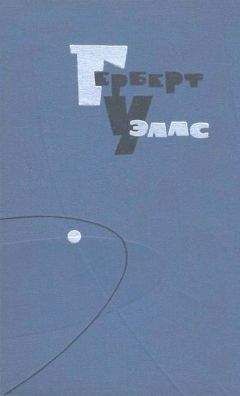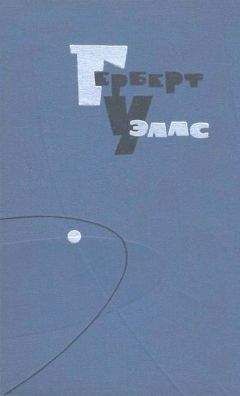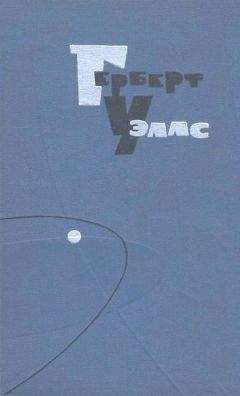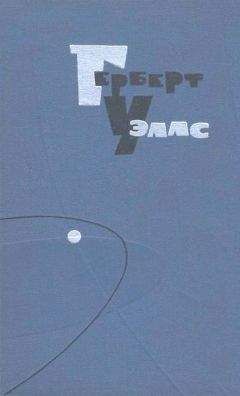Герберт Уэллс - Собрание сочинений в 15 томах. Том 6
— Я даже не знаю вашей фамилии, — сказал он, пытаясь в разговоре найти спасение от одолевавших его мыслей.
— Хендерсон, — ответила она.
— Мисс Хендерсон?
Глядя на него, она улыбнулась и, чуть помедлив, ответила:
— Да. Мисс Хендерсон.
Ее глаза, обаяние, исходившее от нее, были удивительны. Никогда прежде не испытывал он такого ощущения — странного смятения, в котором словно бы таился где-то слабый отзвук слез. Ему хотелось спросить, как ее зовут. Хотелось назвать ее «дорогая» и посмотреть, что она ответит. Вместо этого он пустился в бессвязное описание своего разговора с Боновером, когда он солгал насчет нее, назвав ее мисс Смит, и таким образом ему удалось преодолеть этот необъяснимый душевный кризис…
Замер шелест дождя, и лучи солнца вновь заиграли в далеких рощах за Иммерингом. Они опять молчали, и молчание это было чревато для мистера Люишема опасными мыслями. Он вдруг поднял руку и положил ее на раму бороны, почти касаясь плеч девушки.
— Пойдемте, — внезапно сказала она. — Дождь перестал.
— Эта тропка ведет прямо к Иммерингу, — заметил мистер Люишем.
— Но ведь в четыре…
Он достал часы, и брови его удивленно поднялись. Было почти четверть пятого.
— Уже больше четырех? — опросила она, и вдруг они почувствовали, что им вот-вот предстоит расстаться. То, что Люишем обязан был в половине шестого приступить к «дежурству», казалось ему обстоятельством крайне незначительным.
— Да, — ответил он, только сейчас начиная понимать, что означает разлука. — Но обязательно ли вам уходить? Мне… мне нужно поговорить с вами.
— А разве мы не говорили все это время?
— Это не то. Кроме того… Нет.
Она стояла, глядя на него.
— Я обещала быть дома к четырем, — сказала она. — Миссис Фробишер пьет чай…
— Но, может быть, нам никогда больше не доведется встретиться.
— Да?..
Люишем побледнел.
— Не уходите, — нарушая напряженное молчание, с неожиданной силой в голосе взмолился он. — Не уходите. Побудьте со мной еще немного… Вы… вы можете сказать, что заблудились.
— Вы, наверное, думаете, — возразила она с принужденным смешком, — что я могу не есть и не пить целый день?
— Мне хотелось поговорить с вами. С первого раза, как я увидел вас… Сначала я не осмеливался… Не надеялся, что вы позволите… А теперь, когда я так… счастлив, вы уходите.
Он вдруг замолчал. Ее глаза были опущены.
— Нет, — сказала она, выводя кривую носком своей туфли. — Нет. Я не ухожу.
Люишем едва удержался от радостного возгласа.
— Идемте в Иммеринг! — воскликнул он, и, когда они пошли узенькой тропкой по мокрой траве, он принялся с простодушной откровенностью объяснять ей, как ему дорого ее общество. — Я не променял бы этой возможности, — сказал он, оглядываясь в поисках предмета, который можно было бы принести в жертву, — ни на что на свете… Я не пойду на дежурство. Мне все равно. Мне все равно, чем это кончится, раз мы сегодня можем быть вместе.
— Мне тоже, — сказала она.
— Спасибо вам за то, что вы пошли со мной! — воскликнул он в порыве благодарности. — О, спасибо, что вы пошли! — И он протянул ей руку. Она взяла ее и пожала, и так шли они рука об руку, пока не дошли до деревни. Смелое решение пренебречь своими обязанностями — чем бы это потом ни грозило — удивительным образом сблизило их. — Я не могу называть вас мисс Хендерсон, — сказал он. — Не могу, вы же знаете. Вы знаете… Скажите мне, как вас зовут.
— Этель.
— Этель, — сказал он и, набравшись храбрости, взглянул на нее. — Этель, — повторил он. — Какое красивое имя! Но ни одно имя недостаточно красиво для вас, Этель… дорогая.
Маленькая лавочка в Иммеринге располагалась позади палисадника, засаженного желтофиолями. Ее владелица, веселая толстушка, решила, что они брат с сестрой, и непременно хотела называть их обоих «дорогушами». Не встретив противоречия ни в том, ни в другом, она напоила их изумительно вкусным и удивительно дешевым чаем. Люишему не совсем пришлось по душе это второе качество, ибо оно, казалось, немного умаляло проявленную им смелость. Но чай, хлеб с маслом и черничное варенье были бесподобны. На столе в кувшине тоже стояли пахучие желтофиоли. Этель вслух восхищалась ими, и, когда они уходили, старушка хозяйка заставила ее принять в подарок целый букет.
Скандальной, собственно говоря, эта прогулка стала после того, как они покинули Иммеринг. Солнце, которое уже золотым шаром висело над синими холмами запада, превратило наших молодых людей в две пылающие фигурки, но вместо того чтобы пойти домой, они направились по Вентуортской дороге, что уходит в рощи Форшоу. А за их спиной над верхушками деревьев белым призрачным пятном проступила в сияем небе почти полная луна, постепенно впитывая в себя весь тот свет, который испускало заходящее солнце.
Выйдя из Иммеринга, они заговорили о будущем. А для совсем юных влюбленных не существует иного будущего, кроме ближайшего.
— Вы должны писать мне, — сказал он. Она ответила, что у нее получаются очень глупые письма. — А я буду исписывать целые стопы бумаги в письмах к вам, — пообещал он.
— Но как же вы будете мне писать? — спросила она, и они обсудили новое препятствие. Домой ей писать нельзя, ни в коем случае. В этом она совершенно уверена. — Моя мать… — начала было она и замолчала.
Это запрещение глубоко уязвило его, ибо в то время его особенно одолевала страсть к писанию писем. Что ж, этого следовало ожидать. Весь мир неблагосклонен, даже жесток к ним… «Блестящая изоляция» a deux[10].
А не удастся ли ей подыскать место, куда можно будет посылать письма? Нет, так поступать нельзя: это обман.
Так гуляла эта молодая пара, счастливая обретенной любовью, но исполненная такой юношеской стыдливости, что слово «любовь» в тот день ни разу не сорвалось с их уст. И, однако, по мере продолжения разговора, во время которого ласковые сумерки все больше и больше сгущались вокруг, их речь и сердца совсем сблизились. Тем не менее речи их, записанные хладнокровной рукой, выглядели бы столь убого, что я не берусь привести их здесь. Им же они вовсе не казались убогими.
Когда они по большой дороге возвращались в Хортли, молчаливые деревья были уже совсем черными, ее лицо в лунном свете — бледным и удивительно прекрасным, а глаза сияли, словно звезды. Веточка терна еще была у нее в руках, но цветы почти все облетели. Желтофиоли же по-прежнему издавали пряный запах. А издали, приглушенная расстоянием, доносилась медленная, грустная мелодия — на площадке перед домом священника первый раз в сезоне играл городской оркестр. Не знаю, помнит ли читатель эту песенку, весьма популярную в начале восьмидесятых годов прошлого века:
Страна волшебных грез! Былые дни
Хоть на мгновенье памяти верни (пам-пам) —
и в памяти вдруг воскресают былые, далекие дни…
Такой там был припев, звучавший протяжно и трогательно под аккомпанемент «пам-пам». Что-то жалостное, даже безнадежное слышалось в этом бодром «пам-пам», сопровождавшем заунывно-однообразный, похоронный напев. Но юность все воспринимает по-иному.
— Я обожаю музыку, — сказала она.
— Я тоже, — признался он.
Подымаясь по крутой Вест-стрит, они миновали металлическое и жесткое буйство звуков и вошли в полосу света от неярких желтых фонарей. Несколько человек заметили их и подивились, до чего нынче доходит молодежь, а один очевидец впоследствии даже назвал их поведение «бесстыдным». Мистер Люишем был в своей квадратной шапочке — не узнать его было нельзя. Проходя мимо школы, они увидели в раме окна за стеклом тусклый портрет мистера Боновера, который дежурил вместо своего сбившегося с истинного пути младшего учителя. У дома Фробишеров им волей-неволей пришлось расстаться.
— Прощайте, — сказал он в третий раз. — Прощайте, Этель.
Она медлила в нерешительности. Потом вдруг шагнула к нему. Он почувствовал ее руки на своих плечах, ее мягкие и теплые губы на своей щеке, и не успел он обнять ее, как она, скользнув, скрылась в тени дома.
— Прощайте, — донесся из мрака ее мелодичный, ласковый голос, и, пока он приходил в себя, дверь отворилась.
Он увидел ее черную фигурку в дверном проеме, услыхал какие-то слова, затем дверь затворилась, и он остался один на залитой лунным светом улице. Щека его все еще горела от прикосновения ее губ…
Так закончился первый день любви мистера Люишема.
7. Расплата
А после дня любви наступили дни расплаты. Мистер Люишем был удивлен, даже ошеломлен тем счетом, что спокойно, но сурово был ему предъявлен. Восхитительные чувства, которые ему суждено было испытать в субботу, не покидали его и в воскресенье, и он даже помирился со своей «Программой», уговорив себя, что теперь Она будет его вдохновением и что ради Нее он станет работать в тысячу раз лучше, чем работал бы ради себя. Это, разумеется, не совсем соответствовало истине, ибо он заметил, что его перестало интересовать даже богословское исследование батлеровской «Аналогии». Ни на утренней, ни на вечерней службе Фробишеров в церкви не было. «Почему?» — лихорадочно думал он.