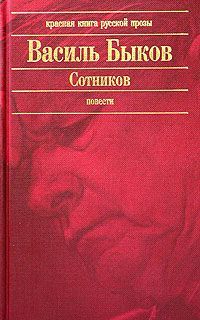Василий Быков - Обелиск
И тут – война.
Сколько мы к ней ни готовились, как ни укрепляли оборону, сколько ни читали и ни думали о ней, а обрушилась она нежданно-негаданно, как гром среди ясного дня. Через три дня от начала, как раз в среду, здесь уже были немцы. Которые местные, здешние крестьяне, те уже, знаешь, привыкли на своем веку к частым переменам: как-никак при жизни одного поколения – третья смена власти. Привыкли, словно так и должно быть. А мы – восточники. Это было такое несчастье – разве думали мы тогда, что на третий день окажемся под немцем. Помню, пришел приказ: организовывать истребительный отряд, чтобы вылавливать немецких диверсантов и парашютистов. Я бросился собирать учителей, объездил шесть школ, в обед на роваре прикатил в райком, а там пусто. Говорят, райкомовцы только что погрузили в полуторку свои пожитки и покатили на Минск, шоссе, мол, уже перерезано немцами. Я поначалу опешил: не может быть. Если немцы, так должны же где-то отступать наши. А то с начала войны тут ни одного нашего солдата никто не видел и вдруг – немцы. Но те, что говорили так, не обманывали – под вечер в местечко и впрямь вкатило штук шесть вездеходов на гусеничном ходу, и в них полно самых настоящих фрицев.
Я да еще трое хлопцев – два учителя и инструктор райкома – огородами прошмыгнули в жито, через него в лес и подались на восток. Три дня шли – без дорог, через принеманские болота, несколько раз попадали в такие переделки, что врагу не пожелаешь, думали: каюк. Учителя одного, Сашу Крупеню, ранило в живот. А где фронт – черт его знает, не догонишь, наверно. Поговаривают, что уже и Минск под немцем. Видим, до фронта не дойдем, погибнем. Что делать? Оставаться – а где? У чужих людей не очень удобно, да и как попросишься? Решили возвращаться назад, все же в своем районе хоть люди знакомые. За полтора года по селам да хуторам перезнакомились со всякими.
И тут, понимаешь, оказалось, что все-таки плохо мы знали наших людей. Сколько было встреч, бесед, за чаркой иной раз сидели, казалось, все добрые, хорошие, честные. А на деле обернулось совсем иначе. Приволоклись мы в Старый Двор – хутор такой близ леса, в стороне от дорог, немцев там будто еще и не было. Ну, думаю, самое подходящее место пересидеть здесь каких пару недель, пока наши погонят немцев. На большее тогда не рассчитывали – что ты! Если бы кто сказал, что война на четыре года затянется, его провокатором или паникером посчитали бы. Крупеня тем временем уже доходит, идти дальше нельзя. И я вспомнил, что в Старом Дворе есть у меня знакомец, активист, грамотный человек Усолец Василь. Как-то ночевал у него после собрания, поговорили от души, понравился человек: умный, хозяйственный. И жена – моложавая такая женщина, гостеприимная, чистюля, не в пример другим. Грибками солеными угощала. В хате цветов полно – все подоконники ими заставлены. Вот мы поздно ночью и заявились к этому Усольцу. Так и так, мол, надо помочь, раненый и так далее. И что, думаешь, наш знакомец? Выслушал и на порог не пустил. «Кончилась тут, – говорит, – ваша власть!» И так грохнул дверью, что аж с подстрешья посыпалось.
Приютила нас простая, никому не знакомая тетка – трое малых детей, старший глухонемой, муж в армии. Как прослышала, что раненый (мы перед этим к другой семье в крайнюю хату зашли), как узнала, кто такие, всех перетащила к себе. Бедолагу Крупеню обмыла, накормила куриным бульончиком и спрятала под снопами в пуньке. И все, помню, охала: может, и мой, бедненький, где так мучается! Значит, любила своего бедненького, а это, брат, всегда что-то да значит. Ну, а Крупеня через неделю помер, не помог и куриный бульончик; пошло заражение. Втихую закопали ночью на краю кладбища. И что же дальше? Посидели еще неделю у тетки Ядвиги, и я взялся нащупывать каких-нибудь партизан. Думаю, должны же быть где-нибудь наши. Не все же на восток поудирали. Без партизан ни одна война у нас не обходилась – сколько об этом книг написано да фильмов поставлено – было на что надеяться.
И знаешь, напал-таки на группу окруженцев, человек тридцать бывших бойцов. Командовал ими майор Селезнев, из кавалеристов, решительный такой мужик, родом с Кубани, мастер ругаться в семь этажей, накричать, даже пристрелить под горячую руку мог. А вообще-то справедливый. И что интересно: никогда не угадаешь, как он к тебе отнесется. Только что грозил пустить пулю в лоб за ржавый затвор, а через час уже объявляет тебе благодарность за то, что на переходе первым заметил хутор, в котором оказалась возможность отдохнуть и подкрепиться. А про затвор он уже и забыл. Такой был человек. Поначалу он меня удивлял, потом ничего, привык к этому его кавалерийскому норову. В сорок втором под Дятловом шел первым по тропке, за ним адъютант Сема Цариков и остальные. И надо же – какой-то паршивый полицай с перепугу пальнул от моста и прямо командиру в сердце. Вот тебе и судьба. В скольких страшных боях участвовал, и ничего. А тут за всю ночь одна пуля – и в командира.
Да, Селезнев был мужик особенный, крутой, своенравный, но, знаешь, голову на плечах имел, на рожон не лез, как некоторые. Заядлый на словах больше, а так – умел думать. Первые несколько месяцев просидели в лесу на Волчьих ямах – урочище так называется за Ефимовским кордоном. Потом уже, в сорок третьем, там обосновалась Кировская бригада, мы перебрались в пущу. А поначалу мы эти ямы обживали. Отличное, скажу тебе, место: болото, бугры, ямы да увалы – сам черт ногу сломает. Ну погрелись мы малость в землянках, попривыкли к волчьей жизни в лесу. Не знаю, подсказал кто или майор сам понял, что война не на несколько месяцев, может, побольше протянется и что без местных ему не обойтись. Поэтому-то и принял в свое кадровое войско меня и еще некоторых: начальника милиции из Пружан, студента одного, председателя сельсовета с секретарем. А на Октябрьские праздники и прокурор наш, товарищ Сивак, заявляется, тоже до фронта не дошел, вернулся. Сначала рядовым был, а потом начальником особого отдела поставили. Но это потом уже, как Селезнева не стало. А в то время решили, что, пока спокойно, надо оглядеться да наладить кое-какие связи с селами, возобновить знакомства с надежными людьми, пощупать на хуторах окруженцев, которые из частей разбежались да к молодицам пристроились. Перво-наперво разослал майор всех местных, здешних, а таких тогда уже человек двенадцать набралось, кого куда. Меня с прокурором, понятно, в наш бывший район. Риску, конечно, тут было побольше, чем в другом месте – все-таки многие нас тут помнили, могли опознать. Но зато и мы знали больше и немного ориентировались, кому довериться, а кому нет. Да и вид у нас был не прежний, не сразу узнаешь – обросли бородами, обносились. Прокурор в черной железнодорожной шинели, я в армяке и сапогах. У обоих торбы за спинами. Как нищие какие.
Поначалу решили зайти в Сельцо.
Не на усадьбу, конечно, а в село – ты, может, знаешь, что через выгон от школы. В селе у прокурора был знакомый один, бывший сельский активист, вот к нему мы и направились. Но сперва из предосторожности зашли в одну хату на Гриневских хуторах – ту самую, что после войны завмаг из Рандулич купил и возле сельмага поставил. Хозяйка в Польшу выехала, года три хата стояла пустая, вот завмаг и откупил. А в войну в ней жили три девки при матери, невестка – сынова женка (сын в польско-германскую войну пропал, потом аж у Андерса объявился). Вот, пока мы портянки сушили, девки нам все и рассказали. И про новости в Сельце тоже. Оказывается, хорошо сделали, что сначала зашли к этим полячкам, а то бы не миновать беды. Дело в том, что этот прокурорский знакомый ходит уже с белой повязкой на рукаве – стал полицаем. Покряхтел прокурор от такой новости, а я, признаться, порадовался; было бы, наверно, хуже, если бы сразу сунулись полицаю в лапы. Однако скоро пришла и моя очередь удивиться и озадачиться – это когда я спросил про Мороза. Невестка и говорит: «Мороз все в школе работает». – «Как работает?» – «Детей, – говорит, – учит». Оказывается, тех самых своих пацанов собрал по селам, немцы дали разрешение открыть школу, вот он и учит. Правда, уже не в Габрусевой усадьбе – там теперь полицейский участок, – а в одной хате в Сельце.
Вот так метаморфоза! От кого-кого, а от Мороза такого не ждал. А тут прокурор высказывается в том смысле, что в свое время, мол, надо было этого Мороза репрессировать – не наш человек. Я молчу. Думаю, думаю, и никак в голове не укладывается, что Мороз – немецкий учитель. Сидим возле печки, глядим в огонь и молчим. Наладили, называется, связи. Один – полицай, другой – немецкий прихвостень, ничего себе кадры подготовили в районе за два предвоенных года.
И знаешь, думал я, думал и надумал сходить все-таки ночью к Морозу. Неужели, думаю, он меня продаст? Да я его, если что, гранатой взорву. Винтовки не было, а граната имелась в кармане. Селезнев запретил брать с собой оружие, но гранату я все-таки прихватил на всякий непредвиденный случай.
Прокурор отговаривал меня от этой затеи, но я не поддался. Характер уж такой с детства: чем больше меня убеждают в чем-то, с чем я не согласен, тем больше мне хочется сделать по-своему. Не очень-то это помогает в жизни, да что поделаешь. Правда, прокурор тут ни при чем. Просто боялся за меня, думал, как бы одному не пришлось возвращаться в лагерь.