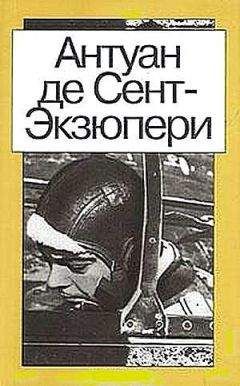Antuan Exupery - Военный летчик
Истребители могут обнаружить нас по бортовой рации, по пучкам разрывов и, наконец, благодаря вызывающей роскоши нашего белого шлейфа. И все-таки мы парим в почти космической пустоте.
Мы летим – я знаю точно – со скоростью пятьсот тридцать километров в час... А между тем все остановилось. Скорость ощутима на беговой дорожке. Здесь же все погружено в пустоту. Так и земля: несмотря на скорость сорок два километра в секунду, кажется, что она оборачивается вокруг солнца довольно медленно. Она тратит на это целый год. Нас, быть может, тоже медленно нагоняет что-то, к нам тоже что-то тяготеет. Сколько самолетов приходится на единицу пространства в воздушной войне? Они – как пылинки под куполом собора. Сами пылинки, мы, быть может, притягиваем к себе несколько десятков или сотен других пылинок. И вся эта пыль медленно поднимается в лучах солнца, словно где-то вытряхивают ковер.
Чего мне опасаться, майор Алиас? Внизу, по вертикали, сквозь недвижное чистое стекло я вижу лишь какие-то безделушки прошлых веков. Я склоняюсь над музейными витринами. Но вот я повернул и теперь смотрю на них против света: где-то далеко впереди, конечно, Дюнкерк и море. Но под углом мне уже трудно что-нибудь различить. Солнце сейчас совсем низко, и я лечу над огромным сверкающим зеркалом.
– Дютертр, вы что-нибудь видите сквозь эту мерзость?
– По вертикали вижу, господин капитан...
– Эй, стрелок, как там истребители?
– Ничего нового...
Я действительно понятия не имею, преследуют нас или нет и видно ли с земли, как за нами гонится множество шлейфов из паутины, похожих на тот, что мы волочим за собой.
«Шлейф из паутины». Эти слова будят мое воображение. Передо мной возникает образ, который сперва кажется мне великолепным: «...недоступные, как ослепительно красивая женщина, мы шествуем навстречу своей судьбе, медленно влача за собой длинный шлейф из ледяных звезд...»
– Дайте-ка левой ноги!
Вот это действительность. Но я снова возвращаюсь к своей дешевой поэзии:
«...вслед за этим виражом повернет и весь сонм наших поклонников...»
Дать левой... дать левой...
Легко сказать! Ослепительно красивой женщине не удается ее вираж.
– Если будете петь... вам не поздоровится... господин капитан.
Неужели я пел?
Впрочем, Дютертр отбивает у меня всякую охоту к легкой музыке:
– Я почти закончил съемку. Скоро можно снижаться к Аррасу.
Можно... Можно... разумеется! Надо пользоваться удобным случаем.
Вот так штука! Рукоятки сектора газа тоже замерзли...
И я думаю:
«На этой неделе из трех вылетевших экипажей вернулся один. Стало быть, шансов очень мало. Но даже если мы вернемся, нам нечего будет рассказать. В жизни мне случалось совершать то, что принято называть подвигами: прокладка почтовых линий, столкновения в Сахаре, Южная Америка... Но война – не настоящий подвиг, война – это суррогат подвига. В основе подвига – богатство связей, которые он создает, задачи, которые он ставит, свершения, к которым побуждает. Простая игра в орлянку еще не превратится в подвиг, даже если ставкой в ней будет жизнь или смерть. Война это не подвиг. Война – болезнь. Вроде тифа».
Быть может, когда-нибудь потом я пойму, что моим единственным настоящим подвигом во время войны было то, что связано с комнатой на ферме в Орконте.
XI
В Орконте, деревне близ Сен-Дизье, где суровой зимой тридцать девятого года базировалась моя авиагруппа, я жил в глинобитном домике. Ночью температура падала настолько, что вода в деревенском кувшине превращалась в лед, и потому, прежде чем одеваться, я первым делом затапливал печь. Но для этого мне приходилось вылезать из теплой постели, где я блаженствовал, свернувшись калачиком.
Для меня не было ничего лучше этого простого монастырского ложа в этой пустой и промерзшей комнате. Здесь я вкушал безмятежный покой после тяжелого дня. Здесь я наслаждался безопасностью. Мне здесь ничто не угрожало. Днем мое тело подвергалось суровым испытаниям большой высоты, днем его подстерегали смертоносные осколки. Днем оно могло стать средоточием страданий, его могли незаслуженно разорвать на части. Днем мое тело мне не принадлежало. Больше не принадлежало. Его могли лишить рук, ног, из него могли выпустить кровь. Потому что – и это тоже только на войне – ваше тело превращается в склад предметов, которые вам уже не принадлежат. Является судебный исполнитель и требует ваши глаза. И вы отдаете ему свою способность видеть. Является судебный исполнитель и требует ваши ноги. И вы отдаете ему свою способность ходить. Является судебный исполнитель с факелом и требует всю кожу с вашего лица. И вот вы становитесь страшилищем, потому что откупились от судебного исполнителя своею способностью дружески улыбаться людям. Итак, тело, которое в тот самый день могло оказаться моим врагом и причинить мне боль, тело, которое могло превратиться в фабрику стонов, – это тело пока еще оставалось моим другом, послушным и близким, уютно свернувшимся калачиком и дремлющим на простыне, и не поверяло моему сознанию ничего, кроме радости бытия, ничего, кроме блаженного похрапывания. Но я, хочешь не хочешь, должен был извлечь его из постели, вымыть ледяной водой, побрить, одеть, чтобы в таком безупречном виде предоставить в распоряжение стальных осколков. И мне казалось, что, извлекая свое тело из постели, я словно вырываю дитя из материнских объятий, отрываю его от материнской груди, от всего, что в детстве ласкает, нежит, защищает тело ребенка.
И тогда, хорошенько взвесив и обдумав свое решение, оттянув его как только можно, я, стиснув зубы, одним прыжком бросался к печке, швырял в нее охапку дров и обливал их бензином. Затем, когда пламя охватывало дрова, я вновь совершал переход через комнату и опять забирался в постель, где было еще тепло, и оттуда, зарывшись под одеяла и перину, одним только левым глазом следил за печкой. Сначала она не разгоралась, потом на потолке начинали пробегать отсветы вспышек. Потом огонь охватывал всю охапку: так веселье охватывает гостей на удавшемся празднике. Дрова принимались трещать, гудеть и напевать. Становилось весело, как на деревенской свадьбе, когда гости подвыпьют и начинают шуметь и подталкивать друг друга локтями.
А иногда мне казалось, что мой добрый огонь неусыпно охраняет меня, как проворный сторожевой пес, который преданно служит хозяину. Глядя на огонь, я тайно ликовал. И когда праздник был уже в полном разгаре, и тени плясали на потолке, и звучала эта жаркая золотистая музыка, а в углах печи громоздились горы раскаленных углей, когда вся комната наполнялась волшебным запахом смолы и дыма, – тогда я прыжком покидал одного друга ради другого, я бежал от постели к огню, предпочитая более щедрого, и, право, не знаю, поджаривал ли я себе живот или согревал сердце. Из двух соблазнов я малодушно уступал более заманчивому сверкающему, тому, который шумнее и ярче себя рекламировал.
И так три раза: сперва, чтобы растопить печь, потом, чтобы улечься обратно и, наконец, чтобы вернуться и собрать урожай тепла, – три раза стуча зубами, я пересекал ледяную пустыню моей комнаты и в известной мере постигал, что такое полярная экспедиция. Я несся через пустыню к блаженной посадке, и меня вознаграждал этот жаркий огонь, плясавший передо мной, для меня, свою пляску сторожевого пса.
Все это как будто пустяки. Но для меня это было настоящим подвигом. Моя комната с очевидностью явила мне то, чего я никогда не смог бы открыть в ней, если бы мне случилось попасть сюда в качестве простого туриста. Тогда она показалась бы мне ничем не примечательной пустой комнатой с кроватью, кувшином и плохонькой печью. Я зевнул бы в ней раз-другой – и только. Как мог я распознать три ее облика, три заключенных в ней царства: сна, огня и пустыни? Как мог я предугадать все превращения тела, которое сначала было телом ребенка, прильнувшего к материнской груди, согретым и защищенным, потом телом солдата, созданным для страданий, потом телом человека, обогащенного радостью обладания огнем, этой святыней, вокруг которой собирается племя? Огонь воздаст честь и хозяину, и его друзьям. Навещая друга, они участвуют в его празднестве, они усаживаются вокруг него в кружок и, беседуя о насущных заботах, о своих тревогах и трудах, говорят, потирая руки и набивая табачок в трубку: «До чего приятно посидеть у огонька!»
Но нет больше огня, чтобы я мог поверить в нежность. Нет больше промерзшей комнаты, чтобы я мог поверить в подвиг. Я пробуждаюсь от своих грез. Есть только абсолютная пустота. Есть только глубокая старость. Есть только голос, голос Дютертра, упорствующего в своей невыполнимой просьбе:
– Дайте-ка левой ноги, господин капитан...
XII
Я исправно выполняю свою работу. Несмотря на то что мы – экипаж, обреченный на поражение. Я погружен в атмосферу поражения. Поражение сочится отовсюду, и признак его я даже держу в руке.