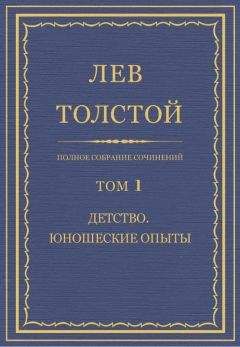Лев Толстой - Детство
— Отлично! Подожди здесь: я позову девочек. Девочки выбежали, и мы отправились на верх. Не без спору решив, кому первому войти в темный чулан, мы уселись и стали ждать.
Глава XII.
ГРИША
Нам всем было жутко в темноте; мы жались один к другому и ничего не говорили. Почти вслед за нами тихими шагами вошел Гриша. В одной руке он держал свой посох, в другой — сальную свечу в медном подсвечнике. Мы не переводили дыхания.
— Господи Иисусе Христе! Мати пресвятая богородица! Отцу и сыну и святому духу... — вдыхая в себя воздух, твердил он, с различными интонациями и сокращениями, свойственными только тем, которые часто повторяют эти слова.
С молитвой поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал раздеваться. Распоясав свой старенький черный кушак, он медленно снял изорванный нанковый зипун, тщательно сложил его и повесил на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно, торопливости и тупоумия; напротив, он был спокоен, задумчив и даже величав. Движения его были медленны и обдуманны.
Оставшись в одном белье, он тихо опустился на кровать, окрестил ее со всех сторон и, как видно было, с усилием — потому что он поморщился — поправил под рубашкой вериги. Посидев немного и заботливо осмотрев прорванное в некоторых местах белье, он встал, с молитвой поднял свечу в уровень с кивотом, в котором стояло несколько образов, перекрестился на них и перевернул свечу огнем вниз. Она с треском потухла.
В окна, обращенные на лес, ударяла почти полная луна. Длинная белая фигура юродивого с одной стороны была освещена бледными, серебристыми лучами месяца, с другой — черной тенью; вместе с тенями от рам падала на пол, стены и доставала до потолка. На дворе караульщик стучал в чугунную доску.
Сложив свои огромные руки на груди, опустив голову и беспрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоял перед иконами, потом с трудом опустился на колени и стал молиться.
Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на некоторые слова, потом повторил их, но громче и с большим одушевлением. Он начал говорить свои слова, с заметным усилием стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих (так он называл тех, которые принимали его), в том числе о матушке, о нас, молился о себе, просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи, твердил: «Боже, прости врагам моим!» — кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой резкий звук, ударяясь о землю.
Володя ущипнул меня очень больно за ногу; но я даже не оглянулся: потер только рукой то место и продолжал с чувством детского удивления, жалости и благоговения следить за всеми движениями и словами Гриши.
Вместо веселия и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца.
Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То твердил он несколько раз сряду: Господи помилуй, но каждый раз с новой силой и выражением; то говорил он: прости мя, господи, научи мя, что творить... научи мя что творити, господи! — с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова; то слышны были одни жалобные рыдания... Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк.
Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхания. Гриша не шевелился; из груди его вырывались тяжелые вздохи; в мутном зрачке его кривого глаза, освещенного луною, остановилась слеза.
— Да будет воля твоя! — вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал, как ребенок.
Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование; но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти.
О великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога, твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих — ты их не поверял рассудком... И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!..
Чувство умиления, с которым я слушал Гришу, не могло долго продолжаться, во-первых потому, что любопытство мое было насыщено, а во-вторых потому, что я отсидел себе ноги, сидя на одном месте, и мне хотелось присоединиться к общему шептанью и возне, которые слышались сзади меня в темном чулане. Кто-то взял меня за руку и шепотом сказал: «Чья это рука?» В чулане было совершенно темно; но по одному прикосновению и голосу, который шептал мне над самым ухом, я тотчас узнал Катеньку.
Совершенно бессознательно я схватил ее руку в коротеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губами. Катенька, верно, удивилась этому поступку и отдернула руку: этим движением она толкнула сломанный стул, стоявший в чулане. Гриша поднял голову, тихо оглянулся и, читая молитвы, стал крестить все углы. Мы с шумом и шепотом выбежали из чулана.
Глава XIII.
НАТАЛЬЯ САВИШНА
В половине прошлого столетия по дворам села Хабаровки бегала в затрапезном платье босоногая, но веселая, толстая и краснощекая девка Наташка. По заслугам и просьбе отца ее, кларнетиста Саввы, дед мой взял ее вверх — находиться в числе женской прислуги бабушки Горничная Наташка отличалась в этой должности кротостью нрава и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на Наташку. И на этом новом поприще она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но напудренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые сношения с Натальей, пленили ее грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась идти к дедушке просить позволенья выйти за Фоку замуж. Дедушка принял ее желание за неблагодарность, прогневался и сослал бедную Наталью за наказание на скотный двор в степную деревню. Через шесть месяцев, однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю должность. Возвратившись в затрапезке из изгнания, она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на нее нашла было и которая, она клялась, уже больше не возвратится. И действительно, она сдержала свое слово.
С тех пор Наташка сделалась Натальей Савишной и надела чепец: весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою.
Когда подле матушки заменила ее гувернантка, она получила ключи от кладовой, и ей на руки сданы были белье и вся провизия. Новые обязанности эти она исполняла с тем же усердием и любовью. Она вся жила в барском добре, во всем видела трату, порчу, расхищение и всеми средствами старалась противодействовать.
Когда maman вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за ее двадцатилетние труды и привязанность, она позвала ее к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана вольная Наталье Савишне, и сказала, что, несмотря на то, будет ли она или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда будет получать ежегодную пенсию в триста рублей. Наталья Савишна молча выслушала все это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, maman немного погодя вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами носовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки изорванной вольной.
— Что с вами, голубушка Наталья Савишна? — спросила maman, взяв ее за руку.
— Ничего, матушка, — отвечала она, — должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните... Что ж, я пойду.
Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слез, хотела уйти из комнаты. Maman удержала ее, обняла, и они обе расплакались.
С тех пор как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, ее любовь и ласки; но теперь только умею ценить их, — тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была любовь и самопожертвование. Я так привык к ее бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов: а что, счастлива ли она? довольна ли?
Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибежишь от урока в ее комнатку, усядешься и начинаешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь ее присутствием. Всегда она бывала чем-нибудь занята: или вязала чулок, или рылась в сундуках, которыми была наполнена ее комната, или записывала белье и, слушая всякий вздор, который я говорил, «как, когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Иваныча из Саксонии» и т. д., она приговаривала: «Да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого снутри — как теперь помню — были наклеены крашеное изображение какого-то гусара, картинка с помадной баночки и рисунок Володи, — вынимала из этого сундука куренье, зажигала его и, помахивая, говаривала;