Гюстав Флобер - Воспитание чувств
Беседа длилась долго; они разговорились по душам. Юссонэ мечтал о театральной славе и театральных заработках. Он участвовал в сочинении водевилей, которых никто не ставил, «имел массу планов», придумывал куплеты; некоторые из них он пропел. Потом, заметив на этажерке книгу Гюго и томик Ламартина,[26] разразился сарказмами по поводу романтической школы. Эти поэты не обладают ни здравым смыслом, ни даром правильной речи, и не французы они — вот что главное. Он хвалился знанием языка и к самым красивым оборотам придирался с той ворчливой строгостью, с той академичностью вкуса, которой отличаются люди легкомысленные, когда они рассуждают о высоком искусстве.
Фредерик был оскорблен в своих пристрастиях; ему хотелось тут же порвать знакомство. Но почему не рискнуть сразу заговорить о том, от чего зависит его счастье? Он спросил литературного юнца, не может ли тот ввести его к Арну.
Это не представляло трудностей, и они условились на следующий день.
Юссонэ не пришел в назначенное время; затем обманул еще три раза. Однажды в субботу, около четырех часов, он явился. Но, пользуясь тем, что был нанят экипаж, он сперва велел остановиться у Французского театра, где должен был получить билет в ложу, заехал к портному, к белошвейке, писал в швейцарских записки. Наконец они прибыли на бульвар Монмартр. Фредерик прошел через магазин и поднялся по лестнице. Арну узнал его, увидав в зеркале, стоявшем против конторки, и, продолжая писать, протянул ему через плечо руку.
В тесной комнате с одним окном во двор столпилось человек пять-шесть; у задней стены в алькове, между двумя портьерами коричневого штофа, был диван, обитый такой же материей. На камине, заваленном всякими бумагами, стояла бронзовая Венера, а по сторонам ее, в полной симметрии, — два канделябра с розовыми свечами. Направо, у этажерки с папками, сидел в кресле человек, все время не снимавший шляпы, и читал газету; стены сплошь были увешаны эстампами и картинами, ценными гравюрами или эскизами современных мастеров, с надписями, в которых выражалась самая искренняя приязнь к Жаку Арну.
— Как живете? — спросил он, обернувшись к Фредерику. И, прежде чем тот ответил, шепотом спросил Юссонэ:
— Как зовут вашего приятеля?
Потом — опять вслух:
— Возьмите сигару, там, на этажерке, в коробке.
«Художественная промышленность», находившаяся в центре Парижа, была удобным местом для встреч, нейтральной территорией, где запросто сходились соперники. В тот день здесь можно было увидеть Антенора Брева, портретиста королей, Жюля Бюрьё, который своими рисунками популяризировал алжирские войны, карикатуриста Сомбаза, скульптора Вурда, кой-кого еще; и никто из них не соответствовал представлениям, сложившимся у студента. Манеры у них были простые, речи — вольные. Мистик Ловариас рассказал непристойный анекдот, а у создателя восточного пейзажа, известного Дитмера, под жилетом была надета вязаная фуфайка, и поехал он домой в омнибусе.
Речь шла вначале о некой Аполлонии, бывшей натурщице, которую Бюрьё будто бы видел на бульваре, когда она ехала в карете цугом. Юссонэ объяснил эту метаморфозу, перечислив целый ряд ее покровителей.
— Здорово же этот молодчик знает парижских девчонок! — сказал Арну.
— После вас, если что останется, ваше величество, — ответил шалун, на военный лад отдавая честь — в подражание гренадеру, который дал Наполеону выпить из своей фляги.
Потом зашел спор о нескольких полотнах, где моделью служила голова Аполлонии. Подверглись критике отсутствующие собратья. Удивлялись высоким ценам на их произведения, и все начали жаловаться, что недостаточно зарабатывают, как вдруг вошел человек среднего роста, во фраке, застегнутом на одну пуговицу; глаза у него были живые, а вид полубезумный.
— Этакие вы мещане! — воскликнул он. — Ну что же из того, помилуйте. Старики, создавшие шедевры, не думали о миллионах. Корреджо, Мурильо…[27]
— А также Пеллерен, — вставил Сомбаз.
Но тот, не обращая внимания на колкость, продолжал рассуждать с таким пылом, что Арну два раза принужден был повторить ему:
— Моя жена рассчитывает на вас в четверг. Не забудьте!
Эти слова вернули Фредерика к мысли о г-же Арну. В квартиру, наверно, проходят через комнатку, что за диваном? Арну, которому нужно было взять носовой платок, только что отворял туда дверь; у задней стены Фредерик заметил умывальник. Но вот в углу возле камина раздалось какое-то ворчание; оно исходило от субъекта, сидевшего в кресле и читавшего газету. Ростом он был пяти футов девяти дюймов, сидел, полузакрыв глаза, волосы у него были седые, вид величавый, и звали его Режембар.
— Что такое, гражданин? — спросил Арну.
— Еще новая низость со стороны правительства!
Дело шло об увольнении какого-то школьного учителя; Пеллерен проводил параллель между Микеланджело[28] и Шекспиром. Дитмер собрался уходить. Арну догнал его и вручил ему две ассигнации. Юссонэ счел момент благоприятным.
— Не могли бы вы дать мне аванс, дорогой патрон?
Но Арну опять уселся и теперь разносил какого-то старца в синих очках, весьма противного на вид.
— Ах! И хороши же вы, дядюшка Исаак! Обесценены, пропали три картины. Все на меня плюют! Теперь все их знают! Что прикажете с ними делать? В Калифорнию, что ли, их отослать? К черту? Молчите!
Специальность старика заключалась в том, что он подделывал на картинах подписи старых мастеров. Арну отказывался платить и грубо выпроводил его. Совсем по-иному встретил он чопорного господина в орденах, с бакенбардами и в белом галстуке.
Опершись локтем на оконную задвижку, он долго и вкрадчиво что-то говорил ему. А потом разразился:
— Ах, граф, достать посредника для меня не составляет трудности.
Дворянин смирился, Арну вручил ему двадцать пять луидоров, а как только тот ушел, воскликнул:
— И несносны же они, эти знатные господа!
— Все они дрянь! — пробормотал Режембар.
По мере того как время шло, дела у Арну становилось все больше; он раскладывал статьи, распечатывал конверты, подводил итоги; на стук молотка, раздававшийся из магазина, выходил понаблюдать за упаковкой, потом снова садился за работу и, продолжая водить по бумаге стальным пером, отвечал на шутки. В тот вечер ему предстояло обедать у своего поверенного, а на другой день уехать в Бельгию.
Прочие беседовали о всяких злободневных вещах: о портрете Керубини,[29] о полукруглом зале Академии художеств, о предстоящей выставке. Пеллерен ругал Институт. Сплетни переплетались со спорами. В этой комнате с низким потолком собралось столько народу, что негде было повернуться, а мерцание розовых свечей пробивалось сквозь сигарный дым, точно солнечные лучи сквозь туман.
Дверь около дивана отворилась, и вошла высокая худая женщина с движениями столь резкими, что на черном шелковом платке звякали все брелоки ее часов.
Это была та самая особа, которую Фредерик прошлым летом видел в Пале-Рояле. Некоторые называли ее по имени и обменивались с ней рукопожатиями. Юссонэ вырвал, наконец, у Арну пятьдесят франков; часы пробили семь; все стали расходиться.
Арну предложил Пеллерену подождать, а сам увел м-ль Ватназ в туалетную комнату.
Фредерик не слышал их слов: говорили они шепотом. Но вдруг женский голос зазвучал громче:
— Полгода как дело сделано, а я все жду!
Наступило долгое молчание, м-ль Ватназ вновь появилась. Арну опять пообещал ей что-то.
— Ну-ну! Еще посмотрим!
— Прощайте, счастливый человек! — сказала она уходя.
Арну быстро вернулся в туалетную комнату, почернил усы, оправил подтяжки, чтобы туже натянулись штрипки, и, моя руки, сказал:
— Мне бы надо было два панно над дверьми, по двести пятьдесят штука, в жанре Буше.[30] Можно рассчитывать?
— Идет, — ответил художник, покраснев.
— Хорошо! И не забывайте мою жену!
Фредерик проводил Пеллерена до конца предместья Пуассоньер и попросил позволения время от времени его навещать; согласие было любезно дано.
Пеллерен читал все труды по эстетике, чтобы открыть истинную теорию прекрасного, будучи убежден, что, найдя ее, создаст шедевры. Он окружал себя всевозможными пособиями, рисунками, слепками, моделями, гравюрами и, терзаясь, искал; он винил погоду, свои нервы, свою мастерскую, выходил на улицу, думая там обрести вдохновение, вздрагивал, будто оно уже осенило его, потом бросал начатую картину и задумывал другую, которая должна была быть еще прекраснее. И вот, мучимый жаждой славы и теряя время в спорах, веря в тысячи нелепостей, в системы, в критику, в необходимость каких-то правил или какой-то реформы искусства, он дожил до пятидесяти лет, не создав ничего, кроме набросков. Непоколебимая гордость не позволяла ему унывать, но он всегда был чем-нибудь раздражен и вечно находился в том искусственном и все же неподдельном возбуждении, которое отличает актеров.

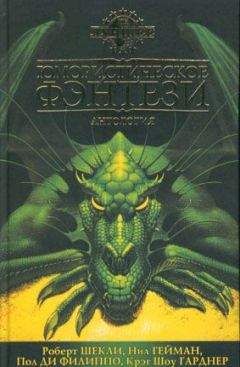
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28259/28259.jpg)
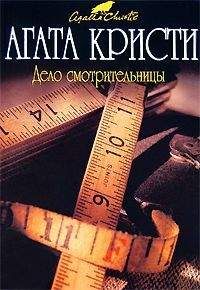
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28288/28288.jpg)